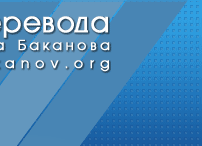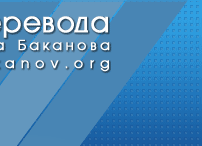Перевод Екатерины Романовой
Джон Кортни Гримвуд
Последний банкет
Как всегда, посвящаю Сэм…
«День знает то, о чем и не подозревало утро».
1
Пролог
Ангелы смерти скребутся в мою дверь.
Бродя по коридорам и глядя на отражение собственных запавших глаз, что смотрят на меня из каждого тусклого зеркала, я сознаю: они – зеркала – не лгут. Дни моей жизни на исходе.
Учителя в школе говорят детям: начни сначала. Вот и я, взявшись писать историю своей жизни, хочу начать с самого начала. Франсуа-Мари Аруэ, более известный под псевдонимом Вольтер, начал свой «Опыт о нравах и духе народов» с описания самой зари человечества. Но как можно знать наверняка, где что-либо берет истоки? Что следует считать началом моей истории – встречу с Виржини, поступление в военную академию и знакомство с Жеромом и Шарлотом, или же день, когда я встретил Эмиля? А может, все началось с навозной кучи, возле которой я ловил и поедал жуков? Оглядываясь назад, я понимаю: то был счастливейший день моей жизни. Поэтому давайте начнем с навозной кучи – она ничем не хуже остальных возможных зачинов.
Жан-Мари Д’Ому,
1790.
1723
Трапезы у навозной кучи
Мое первое воспоминание: я сижу спиной к навозной куче, солнце приятно греет макушку, и я радостно пережевываю жука-оленя. Отирая его сок с подбородка и облизывая губы, я гадаю, скоро ли мне удастся поймать еще одного.
У жуков вкус того, чем они питаются. Вообще все съедобное имеет вкус того, что оно ест или вбирает из почвы, и у жуков-оленей, кормившихся навозом во дворе моего дома, был сладкий привкус навоза – сладкого от придорожной травы. Я скормил лошади последнее сено и знал, что она сейчас в своем полуразрушенном стойле, поэтому цокот копыт, доносившийся из-за ворот, принадлежал какой-то другой лошади.
Я мог бы встать и поклониться, как меня учили. Но солнце тем летом пекло особенно жарко, папа и мама все еще спали в своей комнате с закрытыми ставнями, и мне приказали их не беспокоить. Поэтому я остался на месте.
Счастливый случай принес мне еще одного жука-оленя, и я успел засунуть его в рот ровно в тот миг, когда в воротах показался незнакомец: он бы при всем желании не успел отнять у меня добычу. Незнакомец выругался. По бокам от него возникло еще два всадника.
– Он же отравится! – У незнакомца был низкий голос и морщины, а глаза скрывались в тени широкополой шляпы с пером. Такое строгое лицо я видел впервые в жизни. – Остановите его, виконт…
Человек, к которому он обратился, соскользнул с лошади и привстал рядом со мной на одно колено.
– Плюй, – приказал он, протянув мне руку.
Я помотал головой.
Его лицо исказила досадливая гримаса, но голос остался мягким. Он наклонился еще ниже, так что наши глаза оказались почти на одном уровне. Он пах вином, чесноком и сыром. От одного этого запаха у меня потекли слюнки.
– Ты отравишься.
Я быстро прожевал жука, проглотил, выплюнул раздавленный панцирь в ладонь и положил рядом с остальными. Виконт проследил взглядом за моим движением и удивленно распахнул глаза: на земле лежало около дюжины таких же черных кучек.
– Ваше высочество…
Что-то в его голосе заставило строгого господина спешиться. Опускаясь на колено рядом со мной, он поморщился от боли в ноге. Увидев прожеванные панцири, он переглянулся с виконтом, и вместе они с тоской посмотрели на дверь нашего дома.
– Неделя прошла… – сказал строгий господин. – Или две?
– Когда написано письмо, ваше высочество?
Старик вытащил из кармана сложенный листок бумаги и пробежал по нему взглядом.
– Месяц назад, – мрачно произнес он, окинул взглядом владения моей семьи и нахмурился.
Для меня этот ветхий замок был домом – не замок, а одно название, как я понял спустя много лет. Ветхий фермерский дом, стало быть. Стоял он на склоне холма с виноградниками, которые моя семья продала местному купцу, чтобы наскрести денег на покупку брату офицерского чина.
– Войдите в дом, – распорядился господин.
Виконт встал на ноги.
Наконец спешился и третий незнакомец. Только теперь я увидел, что он еще очень юн, хотя мне, конечно, все равно казался взрослым мужчиной. Он раскрыл рот, но тут же захлопнул его, увидев предостерегающий взгляд господина. Они были очень похожи. Отец и сын? Дедушка и внук? Братья?.. Нет, разница в возрасте слишком велика.
– Помоги виконту, – приказал старик.
– Чем?
– Обратись ко мне как подобает. – Голос прозвучал очень резко.
– Прошу прощения, ваше высочество. Чем покорный слуга может помочь верному соратнику господина?
– Филипп, ты мой сын…
– Не сын, а ублюдок.
Юноша громко хлопнул входной дверью, и на двор опустилась тишина. Впрочем, теперь это была тишина совсем иного рода: не одинокая, а полная присутствия людей. Солнце жарило, сладко пахло навозом, и из щели между булыжниками выполз очередной жук-олень – поменьше, чем предыдущий. Моя рука метнулась к добыче, но старик оказался проворней: он схватил меня и пристально посмотрел мне в глаза.
– Мое, – сказал я.
Он отрицательно покачал головой.
– Поделим? – предложил я без особой надежды на то, что строгий господин в самом деле со мной поделится. Взрослые никогда не делятся.
Он как будто обдумал мое предложение. По крайней мере, хватка его ослабла, и он погрустнел.
– Маловат жук.
– Я вам другого найду.
– Ты ешь жуков?
– Только черных, – уточнил я, показывая на темные кучки, запекшиеся под летним солнцем. – Коричневые кислые.
– Отпусти его, – приказал старик твердым, не терпящим возражений тоном.
Я поднял ладонь и с сожалением смотрел, как жук спрятался под разбитым булыжником. Там он помедлил, словно чувствуя, что за ним наблюдают, а затем побежал дальше и скрылся в тени конюшни.
За моей спиной открылась ставня. Я не обернулся и потому не знал, кто ее открыл: виконт или угрюмый юноша. Старик поднял голову и мрачно кивнул – видимо, ему беззвучно сообщили что-то одними губами, – затем вновь поглядел на меня и натянуто улыбнулся. Он ничего не говорил, тишину нарушало лишь далекое мычанье коров. Поскольку я давно уяснил, что говорить – дело взрослых, а мое дело – молчать, я молчал.
На деревьях ссорились вороны, где-то вдалеке лаяла собака, а за моей спиной грохотали ставни: виконт и юноша распахивали все окна в доме, пока мы со строгим господином сидели на корточках во дворе и терпеливо ждали. Из навозной кучи выбрался очередной жук, моя рука дрогнула, но к насекомому не метнулась. Старик одобрительно кивнул.
– Ты голоден?
Я закивал.
– Иди за мной, – приказал он и медленно поднялся на ноги.
На лошадь он не сел, а взял ее за уздечку и повел за ворота. Остальные две лошади сразу пошли следом, как дрессированные. Мы шагали медленно, потому что у меня ноги были еще коротки, а у старика больны. Высокий, в длинной красной мантии, расшитой золотыми полосами, черных чулках и туфлях с красными пряжками, раньше он явно был толще, потому что одежда на нем висела. На рукаве белело пятно от соуса, под ногтями скопилась грязь. В складках длинного парика я заметил вшей. Вши, кстати, съедобны. Тогда я этого еще не знал, но их можно есть. Лучше всего – поджаренными и с ароматными приправами, которые перебьют специфический привкус.
Мы вышли за ворота на солнце: оказалось, строгий господин привел с собой целую армию. По одну сторону дороги выстроились всадники, человек десять, а прямо перед нами стояли еще пятьдесят человек, все с мечами, но без формы – если не считать таковыми фраки и широкополые шляпы с перьями. Один пришпорил коня, но строгий господин так резко вскинул руку, что всадник едва не свалился на землю. К нам вышел невысокий человек в коричневом плаще.
– Еды, – приказал господин.
С вьючной лошади сняли большую плетеную корзину, и прямо на грязной проселочной дороге расстелили самый настоящий ковер. Больше стелить было негде: по обеим сторонам дороги поднимались высокие насыпи. Я узнал хлеб и холодную курятину, однако все остальные угощения видел впервые. Человек в коричневом плаще – видимо, слуга, но очень могущественный, – низко поклонился строгому господину, указывая ему на ковер.
– Да не для меня, болван! Для него.
Меня толкнули вперед, и я упал на колени перед корзиной. Пальцы впились в мягкий липкий сыр. Я, не думая, тут же их облизал и замер от восторга: вкус сыра был столь совершенен, что мир вокруг остановился. Через секунду он опять ожил, и я слизал с руки последний кусочек. Маслянистая мякоть сыра была белая, с темно-синими прожилками, отчего он напоминал драгоценный камень.
– Рокфор, – пояснил господин.
– Роффор… – повторил я.
Он улыбнулся моей неуклюжей попытке выговорить название сыра, а потом отломил кусок хлеба и, как тряпкой, стер им сыр с моих пальцев. Я потянулся за этим куском. Хлеб был невероятно мягкий и отлично сочетался с сыром. За вторым куском рокфора последовал третий и четвертый: вскоре от булки хлеба осталась половина, сыр исчез, и у меня заболел живот. За моей трапезой наблюдала сотня придворных, солдат и слуг, а со склонов виноградника – сотня крестьян. Они были слишком далеко и не могли различить, что происходит, но такой огромной конной армии они не видели в наших краях уже много лет.
– Ваше высочество… – произнес подошедший сзади виконт.
– Что вы нашли?
Виконт беспокойно взглянул на меня, и строгий господин понимающе кивнул.
– Помойте мальчику руки, – приказал он слуге в коричневом плаще. – И лицо заодно.
– В доме?
– Нет! Ни в коем случае. Я видел неподалеку ручей, ступайте туда. Вот. – Он протянул ему салфетку.
Вода была свежая и прохладная. Я запил ею насыщенное послевкусие сыра и позволил слуге протереть мои руки и лицо мокрой салфеткой. В воде плескались мелкие рыбешки: я быстро сунул руку в ручей, и одна забилась у меня между пальцев. Она все еще билась, когда я ее проглотил.
Слуга оторопел.
– Хотите, для вас тоже поймаю?
Он мотнул головой и еще раз протер мое лицо, убирая из-под носа засохшие сопли и желтую корку из уголков глаз. Когда мы вернулись, у ворот стояла еще более мрачная тишина. Виконт опустился передо мной на колено – прямо в грязь – и спросил, куда подевались все вещи из дома.
– Их забрали.
– Кто?
– Деревенские.
– Что они сказали? – Он говорил очень серьезно – настолько серьезно, что даже я это понял.
– Мой папа им задолжал.
– Это они запретили тебе входить в дом?
Я кивнул. Мне сказали, что родители спят и их нельзя тревожить. Поскольку отец тоже предупредил, что они с мамой очень устали и будут спать, я не удивился. А вот то, что деревенские унесли с собой наши скудные пожитки, было странно. На все мои вопросы взрослые обычно отвечали «Так надо», поэтому я не стал и спрашивать.
– Где ты спал?
– В конюшне, когда шел дождь. В ясную погоду – во дворе.
Строгий господин стал вспоминать и, видимо, так и не припомнил, когда последний раз шел дождь. Но я-то знал, что прятался от него в конюшне по меньшей мере два раза. Крыша протекала – как и любая крыша в нашем хозяйстве, – зато с лошадью было повеселей.
Прежде чем встать, виконт сказал:
– Это регент. Называй его «ваше высочество».
Он поглядел на старика: тот стоял, положив руку на шею лошади, и молча наблюдал за нами.
– Поклонись.
Я поклонился – как можно почтительней. Регент ответил печальной улыбкой и едва заметно кивнул.
– Итак? – спросил он.
– Все украли крестьяне.
– Имена известны?
Виконт снова наклонился ко мне и повторил вопрос регента, хотя я прекрасно его расслышал. Я стал перечислять всех, кто заходил к нам домой, и регент приказал слуге в коричневом плаще внимательно слушать. Затем слуга обратился к одному из солдат, и тот уехал, а следом поскакали еще трое.
– Как тебя зовут? – спросил меня угрюмый юноша.
– Филипп… – вмешался регент.
– Надо же знать его имя! – возмутился юноша. – Мало ли кто он такой.
Старик вздохнул.
– Назови свое имя.
– Жан-Мари, – ответил я.
Он подождал, затем снисходительно улыбнулся, и я понял, что ему этого мало. Свое полное имя я знал, а еще весь алфавит и счет до двадцати. Иногда мог и до пятидесяти сосчитать без ошибок.
– Жан-Мари Шарль д’Ому, ваше высочество.
Он посмотрел на виконта, и тот пожал плечами. Я понял, что они оба очень мною довольны. Юноша по имени Филипп разозлился пуще прежнего, но в другом расположении духа я его и не видел, поэтому внимания на это не обратил.
Регент сказал:
– Посадите его в багажную телегу.
– Он поедет с нами? – уточнил виконт.
– До Лиможа. Там должен быть сиротский приют.
Виконт подался вперед и что-то тихо произнес. Регент сперва задумался, затем кивнул.
– Вы правы. Можно определить его в Сен-Люс. Мэру велите продать имение и лошадь, а вырученные деньги направить прямиком в школу. Предупредите их, что я лично заинтересован в ребенке.
Низко поклонившись, виконт отправил одного из солдат искать мэра.
Солдат и мэр вскоре пришли, но первыми явились те четыре всадника, которых отправили в деревню за названными мною людьми. Их повесили на деревьях еще прежде, чем мэр въехал на дорогу, ведущую к нашему имению. Я изо всех сил пытался не смотреть, как они брыкаются; наконец виконт заметил, что я все равно смотрю, велел мне забраться в телегу и отвернуться.
Видеть я их перестал.
Однако возмущенные крики я слышал прекрасно; потом они перешли в мольбы и причитания. В конце концов крестьяне прокляли свою жестокую судьбу и заявили, что мой отец на самом деле им задолжал. В этом, насколько я понял, никто не сомневался. Но забирать у него вещи они не имели права. К тому же мой отец был дворянин, а закон всегда на стороне знати.
Не-знать, висящая на деревьях, была одета куда лучше меня. У одного я заметил на ногах кожаные туфли вместо деревянных башмаков, какие обычно носили крестьяне. И все же он был крестьянин, привязанный к земле и обязанный служить своему господину. Деревенских жителей могли обложить непомерной данью, пытать, покалечить и лишить земли практически без всякого суда.
Со мной так поступить не могли. И работать я, разумеется, не мог. Только на своей собственной земле, но у меня ее не было. К этому времени я уже сообразил, что родители умерли.
Мне полагалось зарыдать или хотя бы захныкать… Однако мой отец был угрюмым безмолвным человеком, который порол меня за дело и без дела, а мать напоминала бледную тень – и защиты от нее ждать не приходилось, как не ждешь защиты от тени.
По сей день я жалею, что так мало по ним скорбел.
Покидая родное имение, которое вскоре должны были выставить на продажу, я мог думать только об удивительном вкусе голубого сыра. Грустил я лишь по дряхлой лошадке, хромой и засиженной мухами, с вылинявшей гривой и ободранным хвостом. Все считали, что у клячи прескверный нрав, но она была мне единственным другом с тех пор, как я неверными шагами вошел в конюшню и плюхнулся в сено у ее ног.
– Не оглядывайся, – сказал виконт.
По его тону я понял, что там еще вешают крестьян. Несколько дергающихся тел отбрасывали тени на пыльную дорогу. Тени эти вскоре замерли – так постепенно успокаивается волна в оросительных каналах, когда пускают воду.
Виконт был Луи Д’Аверн, верный помощник строгого господина – его высочества герцога Орлеанского, которого все величали регентом. До февраля того года он приходился наставником юному Людовику XV. Мне он показался глубоким стариком, но ему было всего лишь сорок девять – сейчас я более чем на двадцать лет старше. В декабре того же года, 1723-го от Рождества Христова, он умрет. Не вынесет груза ответственности, тяжелой болезни и потери власти.
Теперь о моих родителях. Отец был болван, а мать скорее умерла бы с голоду, чем украла бы яблоко из соседского сада и тем опорочила имя семьи, в которую некогда вошла с такой гордостью. В нашей нелепой стране есть два способа лишиться дворянского титула… Точнее, раньше было два, пока всякие учредительные собрания не начали отменять титулы и забирать у дворян земли.
Когда-то все это имело значение, но очень скоро о сословных привилегиях никто и не вспомнит. Итак, déchéance – утрата права вследствие неисполнения своих феодальных обязанностей. И dérogeance – лишение дворянства в результате занятия запрещенными видами деятельности, главным образом торговлей или возделыванием чужой земли вместо собственной. У моего отца обязанностей было мало, навыков и занятий – никаких, а унаследованный клочок земли он продал, чтобы купить брату офицерский чин в кавалерии. Жертва оказалась напрасной: брат погиб в первой же битве. Его похоронили в грязной канаве и быстро забыли. А потом родился я.
1724
Школа
Мое следующее воспоминание датируется годом позже. То, что случилось между отъездом из родительского имения и поступлением в школу Сен-Люс, было слишком предсказуемо и почти не оставило отпечатка в моей памяти. Солнце вставало и садилось; старуха, жившая в сторожке у школьных ворот, кормила меня дважды в день – один раз сразу после восхода, второй на закате, – а я за это кормил ее кур и сам заботился о себе. Еда была безвкусная и однообразная, но благодаря регулярности и размеру порций я все же рос и развивался. В мои обязанности насыпать корм петуху и курам. Петух был старый, злой и совсем скоро должен был отправиться в котел. Курам это не грозило, покуда они несли яйца, и я иногда врал, что оступился и выронил одно яйцо или же забыл покормить птиц вечером, поэтому одна ничего не снесла. Быть может, старуха мне даже верила.
Когда яиц было много, я брал одно и выпивал; густой желток стекал по подбородку, я вытирал его рукой и облизывал пальцы. Зимние желтки на вкус были кислее летних. Осенние отдавали выгоревшей землей и солнцем. У весенних желтков тоже был особый вкус. Вкус весны. Все, что можно поймать, убить, выкопать или сорвать весной, имеет ее вкус. Про другие времена года такого не скажешь.
Старуха называла меня своим «страннышом» и даже почти не шлепала, если ловила на краже еды. Когда мне чего-то не хватало, я добывал это сам. У ворот росла дикая яблоня: плоды ее были кислы, а червяки внутри – еще кислей. Жуки во дворе оказались не такими сладкими, как у нас дома, а сыр был твердый, как воск – ни намека на синие прожилки рокфора и его великолепный запах порчи. Живя в сторожке у ворот Сен-Люс я попробовал много нового: паутину и уховерток (похожи на пыль, выплюнул), пауков (похожи на незрелые яблоки), куриные и собственные испражнения (куриные горькие, мои – почти безвкусные). Еще я отведал воробьиных яиц и головастиков из ручья. И то, и другое заинтересовало меня не столько вкусом, сколько текстурой: склизкой, но по-разному. Старуха помогала присматривать за учениками школы и получила задание воспитывать меня до тех пор, пока я не смогу туда поступить. Скоро этот день настал.
Она предупредила, что в школе есть мужчины, которые любят маленьких мальчиков больше положенного, а мои сверстники бывают очень жестоки. Я должен уметь постоять за себя. Конечно, она заступится за меня при случае, но трус в школе долго не протянет.
Директор подумал-подумал, надо ли дожидаться ли моего семилетия, и в итоге решил, что хватит и шести с половиной. Мне полагалось называть его «господин», как и всех старших, кроме слуг – они будут называть господином меня.
– Все понял?
Старуха выстирала мою одежду, умыла меня и заставила съесть тарелку овсяной каши. Только тут, заметив узел с новой одеждой – чуть более приличной курткой и новыми панталонами, – я сообразил, что покормил старухиных кур в последний раз. Вечером им придется ждать ее возвращения.
– Будь храбрым, – сказала она напоследок. – И все получится.
Старухино лицо скривилось, и она замерла, как бы раздумывая, поцеловать меня или обнять на прощание. Она говорила без ошибок и знала грамоту, но вынуждена была зарабатывать себе на хлеб и жила в крохотной сторожке. А еда… видимо, еда ей была безразлична; изо дня в день она готовила одно и то же. Старуха посмотрела на меня, я посмотрел на старуху, и наконец до меня дошло, что в школу я пойду один.
Взяв узел, я отправился по дороге к школе и с удивлением обнаружил, что идти довольно далеко. Спустя несколько минут я обернулся: старуха все еще стояла у ворот в начале дороги. Я помахал, она тоже помахала, а потом я зашагал дальше, размахивая узелком.
Ветер был еще по-летнему теплый, дорога сухая, а трава вокруг – слегка пожелтелая. Бутень стоял уже голый и так и ждал, когда из него сделают свистки и духовые трубки (и то, и другое я открыл для себя совсем недавно). На каштанах по обеим сторонам дороги висело множество плодов; я сорвал несколько самых крупных, очистил, отполировал орехи до блеска и бросил в карман. Каштаны валялись и на дороге, их я тоже собирал, покуда не набил карманы до отказа.
Тут ко мне подбежал мальчишка. Он протянул руку и властно сказал:
– Отдай.
Так меня встретили в школе, где я еще никого не знал. Перед этим я прожил год под одной крышей со старушкой, которая не приходилась мне ни родственницей, ни другом, ни слугой, ни хозяйкой. Позже я узнал, что ученикам выходить на дорогу между воротами и школой запрещалось; дюжина мальчишек с удивлением глазели на меня, одетого в школьную форму, и гадали, откуда я взялся и какое наказание мне грозит за побег со школьного двора.
– Дай, не то получишь! – пригрозил мне мальчишка, все еще протягивая руку.
Я молча смотрел на него.
Он принадлежал к человеческому роду, как и я, но я впервые видел мальчика так близко. Играл я всегда один – или просто сидел, если играть запрещали. Старуха не предлагала мне завести друзей, а сам я не чувствовал в этом необходимости. Мысль о том, что я должен поделиться с кем-то своими каштанами, показалась мне нелепой.
– Я предупредил.
Под внимательными взорами друзей он размахнулся и ударил меня по лицу. Я качнулся, зажав руками уже истекающий кровью нос, и услышал громкий хохот.
– Хочешь каштанов?..
– «Очешь каштадов?» – передразнил меня обидчик.
– На!
Я швырнул горсть орехов прямо ему в лицо и, когда он зажмурился, с размаху ударил его кулаком в нос. Он качнулся точь-в-точь как я, и тогда я нанес второй удар – столь сильный, что у меня на костяшках лопнула кожа. Обидчик был на несколько дюймов выше и явно старше меня, но от удара он упал на землю и весь съежился.
Школу Сен-Люс огораживал ржавый кованый забор; в стене главного здания была арка, которая вела во внутренний двор.
– Эй, ты кто такой?.. – К нам плелся какой-то старик. – Отвечай.
– Жан-Мари.
Какой-то другой мальчишка рассмеялся и тут же умолк под сердитым взглядом старика.
– Он еще маленький и не знает наших порядков. Дайте ему две недели передышки. Поняли?
– Да, учитель.
– Фамилия у тебя есть?
– Д’Ому, госпоодин… Жан-Мари Шарль Д’Ому.
Он нарочно меня спросил, чтобы остальные узнали мое имя – это я понял лишь много лет спустя. Доктор Морел, семидесятилетний старик, был прежний директор школы и отец нового директора. Мне он показался древним старцем. Положив руку мне на плечо, доктор Морел повел меня сквозь арку в темный внутренний двор, на который со всех сторон выходили окна классных и жилых комнат. В противоположной стене я заметил арку поменьше.
– И ты иди, – бросил он через плечо моему обидчику. Тот неохотно поплелся за нами.
– Дюра, – сказал мальчик, протягивая руку.
Я недоуменно уставился на нее.
– Надо пожать.
– Ты же меня ударил!
– Ну и что? Так положено.
Я взял его за руку, и он кивнул.
– Эмиль Дюра. Второклассник.
Старик обернулся и с улыбкой смотрел, как мы пожимаем друг другу руки.
– Не опаздывайте, – сказал он Эмилю. – Но сперва познакомь его с классом.
– Каким?
– Читать умеешь? – спросил меня старик.
– Да, господин. – Старуха научила меня остальным буквам алфавита.
– Сколько будет пятьдесят минус двадцать?
– Тридцать, господин.
Старик задумался на миг, а потом объявил:
– Будешь учиться в моем классе. Отвечает за тебя Эмиль. А в наказание…
– Господин… – хотел было возразить Эмиль.
– Думаешь, я поверю, что он ударил тебя первым?
– Пока моя вина не доказана, я не виновен. Верите вы мне или нет.
Доктор Морел вздохнул.
– Юридические премудрости оставь дома, Дюра. Оставь их таким людям, как твой отец.
Он обхватил лицо Эмиля ладонями и резко повернул к себе.
– А теперь говори правду: ты первый его ударил?
Лицо у мальчика было узкое и настороженное, кудри темные, а ногти – чистые. Это меня удивило. Я еще никогда не видел чистых ногтей.
Эмиль обдумал вопрос учителя.
– Да, господин.
Так я познакомился с Эмилем Дюра, сыном адвоката. Он учился здесь потому, что за его учебу платил отец. По выходным Эмиль уезжал домой, отчего все остальные относились к нему с долей презрения и восхищения. Его отец был очень богат, а поскольку школа Сен-Люс предназначалась для детей обедневших дворян (таковых хватило на пять классов по сорок человек), это тоже делало его чужаком. Именно поэтому мальчишки заставили его выйти мне навстречу и ударить меня. Будь он де Дюра, жизнь Эмиля была бы куда проще. Отсутствие частицы «де» в фамилии отличало его от всех остальных, хотя в силу малого возраста я еще не мог этого понять.
В первый день ничего особенного не произошло. Я ходил всюду за Эмилем и тихо сидел за партой. Мне удалось правильно ответить на три вопроса, заданных учителем, однако другим он задавал вопросы посложней – на них я бы ответить не смог. Когда Эмиль склонил голову над книгой и стал читать про себя, я сделал то же самое, подглядев у него номер страницы. Я просмотрел ее трижды и почти ничего не понял, но, когда пришел мой черед, прочел свою строку четко и громко. «Слава великих людей должна измеряться способами, какими она была достигнута…»*
Эмиль сидел в двух партах от меня, поэтому его цитата пришлась почти на конец списка. Вскоре, однако, мы стали сидеть вместе – обоим стало ясно, что драка на школьном дворе сделала нас лучшими друзьями. Цитата Эмиля звучала так: «Прежде чем сильно чего-то пожелать, следует осведомиться, очень ли счастлив нынешний обладатель желаемого»**.
-----------сноска---------------------
*, ** – «Максимы и моральные размышления», Франсуа де Ларошфуко. Перевод Э. Л. Линецкой. (Здесь и далее примечания переводчика).
-----------сноска---------------------
Позже я узнал и имя автора – Рошфуко, еще позже – кто он такой и почему его максимы так знамениты. Имя напомнило мне название сыра, которым угощал меня регент, а вскоре Эмиль привез мне из дома завернутый в бумагу гостинец – тот самый сыр. Вкус у него оказался точь-в-точь такой же: плесени, цокота лошадиных копыт по мостовой, навозных жуков и солнца.
За первые две недели в школе Сен-Люс я многое узнал от Эмиля: каких мальчишек и учителей остерегаться, кому можно доверять и что такое «две недели передышки». Эмиль стал мне настоящим другом. Однажды какой-то мальчик – старше и сильнее меня, поскольку я был самым маленьким в школе, – попытался забрать мою рабочую тетрадь. Его тетрадь украли, а такая потеря каралась поркой. Эмиль тут же за меня вступился, и вместе мы легко прогнали обидчика.
Наша дружба продлилась многие годы, и разбить эти узы могли только узы другие, куда более могущественные и беспощадные. Но это произойдет в столь отдаленном будущем, что мальчишками мы не могли о нем и помыслить: наши дни тянулись целую вечность, а память жадно проглатывала все подробности об окружающем мире.
– Надо хорошо учиться, хорошо играть в спортивные игры, хорошо драться… – Эмиль скорбно ухмыльнулся и потрогал желтый край синяка, который я ему поставил. Из солидарности я дотронулся до разбитой губы, хотя болячка уже почти сошла, а отек – и подавно. Писаные правила понять и запомнить не составляло труда, к тому же они всегда были на виду, на табличке в главной рекреации. С неписаными правилами дело обстояло куда сложней. Однако (это относилось и к школе, и к миру взрослых) любые правила можно было упростить и свести к самым главным. Этим Эмиль и занимался, широко расставив ноги и убрав руки за спину – наверняка его отец так же выступал в суде.
– Драться можно и нужно, но не забывай и читать.
Я вопросительно посмотрел на него.
– Тогда учителя оставят тебя в покое.
Видимо, он имел в виду, что доктор Паскаль и прочие учителя должны как можно чаще видеть меня за учебой, а мальчишки – в драках. На всякий случай я уточнил. Эмиль кивнул. Мне было шесть лет, а ему целых восемь: уж он-то знал, как устроен мир. Я приложил все силы, чтобы выполнять его наставления, и в результате учителя меня любили, а друзей становилось все больше. Побитые мной мальчишки хотели дружить, чтобы избежать побоев, и их приятели тоже. Через некоторое время я перестал драться и считать друзей. Они по-прежнему хорошо ко мне относились, но ничего не получали взамен. Эмиль стал исключением.
Мы вместе играли, и его отец даже разрешил мне погостить у них в выходные. Я приехал в грязных обносках, а покинул их дом в одежде Эмиля, из которой тот вырос. Что еще важнее, я вволю наелся и набил карманы кусками разных сыров. Мама Эмиля подивилась моей любви к рокфору и спросила, где я его пробовал.
– Меня угостил его высочество, регент.
Она взглянула на мужа, затем на Эмиля – тот пожал плечами, допуская, что я говорю правду, но не зная наверняка. Мне пришлось рассказать Эмилю, как герцог Орлеанский оказался во дворе моего дома и уехал, оставив позади десяток повешенных на деревьях крестьян. Про жуков я умолчал.
Эмиль потом передал мне слова матери: иногда судьба бывает милостивее, чем нам кажется. Иногда она даже добра к тем, кто отчаянно нуждается в ее доброте. Я полюбил мадам Дюра всем сердцем, и она стала мне мамой. Эмиль считал меня своей собственностью и поэтому тоже хотел, чтобы я ей понравился. Его, единственного ребенка в семье, баловали и ласкали, как дофина. Даже сварливый господин Дюра одобрил мою дружбу с сыном.
Он был невысокого роста, носил дорогую одежду и драгоценный перстень на пальце, верхнее платье застегивал наглухо и регулярно чистил ногти. Порой я замечал, как он переводит взгляд с меня на сына и обратно, словно пытаясь найти сходства и отличия. Эмиль был опрятней и по-прежнему выше меня, хотя я уже подрос. Ел я больше, с удовольствием уминая все, что давали – и этим заслужил любовь мадам Дюра, крупной женщины в золотых браслетах, которая обожала устраивать в саду званые ужины. Господин Дюра представлял интересы школы и барона де Бельви, поэтому его сына приняли в школу, а меня отпустили на каникулы к ним в гости.
Вежливость была у меня в крови, как у всякого дворянина, и с Эмилем я обращался на равных – никто не говорил мне, что так не положено. Позже я обзавелся и другими друзьями. Они сразу заявили, что Эмиль – простолюдин, и дружить с ним нельзя. Я посмотрел на них, на себя, на Эмиля и не увидел никакой разницы. Мы носили одинаковую форму и учились в одной школе, ели одинаковую пищу и ходили на одни и те же уроки. Пожалуй, Эмиль был чище и опрятней нас, да и спал дома, а не в школьной спальне, но все это не делало его хуже. Наоборот, ему повезло. Мы знали, что крестьяне совсем другие.
Эти серые, почти одинаковые создания равнодушно глазели на нас с полей, когда дважды в год мы покидали стены школы: чтобы побывать на ярмарке в Мабонне и на ужине у барона де Бельви, местного землевладельца и основателя школы. Крестьяне носили грязные лохмотья и жили в лачугах, их покрывал такой толстый слой вонючей грязи и пота, что отличить мужчин от женщин было почти невозможно. И хотя иногда мы замечали в толпе мальчишек с широко распахнутыми от любопытства глазами или миловидных девчонок, мы знали, во что они превратятся. Так было всегда – и будет, думали мы. А главное, так думали они сами, поэтому так оно и было.
1728
Казнь собаки
Как приготовить мышь
Сперва утопить. Если прибить, в мясе будут осколки костей. Выпотрошить, снять шкурку, промыть в воде. Связать три-четыре тушки вместе, обернуть мокрой глиной и запечь в костре. Либо разрубить пополам и зажарить с мелко порезанным луком, посыпав солью, перцем и тимьяном. Так же можно приготовить воробьев. На вкус как курица.
Как приготовить воробья
Выпотрошить, ощипать, отрезать ножки и промыть тушку в воде. Выкладывать слоями в горшок, пересыпая солью. Когда понадобится, смыть соль и обжарить в небольшом количестве оливкового масла. В отдельной сковородке поджарить до прозрачности лук, добавить порезанные кубиками помидоры. Выложить воробьев на соус и посыпать свежим базиликом. На вкус как курица.
Как приготовить кошку
Выпотрошить, снять шкуру, отрезать голову, хвост и лапы, тщательно промыть в чистой воде. Тушка неотличима от кроличьей, ее можно так же зажарить на открытом огне. Насадить на вертел, обмазать маслом, приправить эстрагоном. Готовность определять, протыкая мясо ножом: вытекающий сок должен быть прозрачным. На вкус как курица.
Как приготовить собаку
Выпотрошить, снять шкуру, разрубить. Ляжки слишком жирные и потому не годятся в пищу, срезанное с боков мясо можно пожарить толстыми кусками, остальное потушить или в крайнем случае зажарить. Специфический запах и лишний жир можно удалить, предварительно отварив мясо в воде. Обильно полить соусом или приправить перцем чили. На вкус как кислая баранина.
Печальная истина состоит в том, что, за исключением собаки, почти все животные на вкус одинаковые. Те, чье мясо не похоже на курицу или говядину, напоминают на вкус баранину. Когда готовишь мясо, секрет разнообразия – в приправах. Овощи, фрукты и травы куда более интересны и разнообразны на вкус, нежели звери, которые ими питаются. Да и наши описания в корне неверны: мы говорим, что кошачье мясо похоже на курятину, но, если бы нас вскармливали кошачьим бульоном, мы бы думали наоборот.
«Как приготовить мышь» – мой первый рецепт, который я записал аккуратным почерком в небольшой блокнот, украденный у учителя. Мне было десять, и насчет вкуса я ошибся. Мышиное мясо показалось мне больше похожим на курятину, нежели на говядину, поскольку я был еще юн и неопытен. Кошка и собака изменили мою жизнь. Сперва я приготовил кошатину, но в этой части своего повествования я расскажу про другую, дикую кошку, запутавшуюся в зарослях терновника.
Однако всему свое время. Перед случаем с кошкой меня выпороли. Когда мне было девять, умер старый директор, и все ходили по школе на цыпочках. Мы поняли, что дело неладно, когда у всех отменили уроки, а в ворота въехала карета доктора. Новый директор школы лично повел его наверх.
Провожали старика всей школой.
На следующий год никто не умер, а еще через год, когда мне исполнилось одиннадцать, в школе появился новый учитель, доктор Форе, преподававший латынь и теологию. Меня он невзлюбил с первого взгляда. Ему не нравилось мое лицо, наша дружба с Эмилем, которую он находил подозрительной, а также то, что следующие каникулы я собирался провести в гостях у Эмиля, хотя по правилам должен был остаться в школе. В первую же неделю он выпорол меня за «отвратительные привычки».
Я съел сырую улитку. Вообще-то нас часто кормили тушеными улитками, а учителя ели их сваренными в сливочном масле и приправленными чесноком. Но сырая улитка – это совсем другое дело. К тому же я нашел ее в куче нечистот из школьного туалета. Доктор Форе заявил, что мои ягодицы станут такими же влажными, как улитка, только от розог. После пятничных молитв и благословения он приказал мне подняться к кафедре, снять штаны и ухватиться за дальний край небольшого стола, в результате чего я растянулся на нем с голым задом.
Розги были сделаны из ивовых прутьев, пролежавших целую ночь в бочке с соленой водой – ее внесли в зал два мальчика. Соленая вода придает розгам упругость и предотвращает кровотечение. Первый удар заставил меня подскочить: пальцы, вцепившиеся в край стола, громко хрустнули.
Мне было одиннадцать. Все, кого я знал в этом мире, молча смотрели на мою битву с болью, обжигающей тело. Эмиль велел мне кричать. Он сказал, что негодяи вроде доктора Форе любят крики. Если я стану кричать, все закончится гораздо быстрей. Но от боли мне так сдавило горло, что наружу не могло вырваться ни единого звука.
Второй удар оказался еще сильней, а после третьего стена актового зала поплыла во мрак. Я наконец ойкнул и услышал за спиной довольное бормотание доктора Форе. Четвертый удар я снес молча: в самый ответственный момент на меня накатила темнота. После пятого мой рот открылся в безмолвном крике, а от шестого я бы выплюнул легкие, если б не поднял глаза и не увидел за приоткрытой дверью девочку. У нее были темные грязные волосы, от ужаса она широко распахнула глаза и приоткрыла рот. Моя ровесница или, может, на год старше.
Девочка. В школе, где училось сто пятьдесят мальчиков.
Шестой удар выбил из меня сдавленный стон, и тут вперед вышел директор. Он велел доктору Форе остановиться. Я снова поднял глаза: девочка исчезла, дверь была плотно закрыта. Директор помог мне встать и отдал на попечение двух одноклассников. Если меня начнет лихорадить, об этом надлежит немедленно сообщить его жене. Доктор Форе, презрительно наблюдавший за происходящим, бросил на меня гневный взгляд. Я в ответ широко улыбнулся, и это привело его в ярость.
Наутро остальные мальчишки встретили меня аплодисментами. Я был герой, вынесший шесть ударов розгами без единого крика. Мне пришлось скинуть штаны и стоять с голым задом, пока одноклассники по очереди оценивали причиненный ущерб. Многие решили, что порка побила прежний рекорд, когда прошлым летом директор со всей силы нанес несчастному десять ударов тростью. Рекордсмен целую минуту разглядывал мой зад, а класс, затаив дыхание, дожидался вердикта. Наконец он великодушно кивнул и сказал, что мне попало сильней.
Его благородный ответ встретили еще одним взрывом аплодисментов.
– Ты болван? – прошипел Эмиль, когда овации стихли и все принялись открывать учебники на нужной странице, которую полагалось прочесть вслух своему соседу или про себя. – Теперь тебе еще больше достанется!
Эмиль обычно знал, что говорил, но на сей раз ошибся. Доктор Форе не рискнул бы выпороть меня еще раз: а ну как я снова вытерплю? Ему не удалось выбить из меня ни единого крика, да к тому же порку прекратил директор. Да, мы с Эмилем понимали, что у меня появился заклятый враг. Однако доктор Форе не стал бы еще раз унижаться на глазах у всей школы.
Он отомстил нам иначе. Не сумев сломать меня, он решил сломать Эмиля. Это случилось на следующей же неделе. Эмиль якобы совершил какой-то проступок и уже в четверг утром лежал на столе в актовом зале, а доктор Форе с ухмылкой на лице стискивал в руках розгу. Конечно, Эмиль кричал. Он кричал так громко, что младшие от страха затыкали уши. После третьего удара потекла кровь, и директор потребовал уменьшить силу ударов. Это не помогло, Эмиль все равно уже рыдал.
Аплодисментами его никто не встречал. Никто не попросил его снять штаны, чтобы посмотреть, не лишился ли я звания рекордсмена, хотя досталось ему не меньше: следы от розог были так же мокры, как мои, а синяки – столь же темны. Эмиля избегали, словно боясь заразиться его трусостью. Буржуазное происхождение, бабушку-еврейку и отъезды домой по выходным – все это вменили ему в вину. Он заснул в слезах и наутро выглядел еще хуже, чем минувшим днем. В обед, не в силах более выносить его слезы и нападки одноклассников, я отправился на поиски директорской жены: сообщить ей, что Эмиля лихорадит.
– Какие симптомы?
– Он плачет.
Она горько вздохнула, пробормотала что-то о людской жестокости и велела мне привести Эмиля. Ему предстояло провести ночь в лечебной палате, и мне, как другу, разрешили составить больному компанию. Пока же я должен привести ей Эмиля и вернуться на урок. «Тебя зовут д’Ому, не так ли?» – спросила она. Я кивнул и выполнил ее поручение: под презрительными взглядами одноклассников вывел Эмиля из класса.
– Скоро увидимся, – сказал я.
– Нет, – с горечью ответил он. – Я хочу побыть один.
– А отомстить?
Я с самого утра обдумывал план мести. Он был рискованный; впрочем, все хорошие планы предполагают долю риска. Эмиль мог бы вернуть себе уверенность и даже заслужить уважение одноклассников. Не дождавшись ответа, я оставил его у двери в палату – темную каморку, окно которой выходило во внутренний дворик. В этом дворе доктор Форе держал свою собаку. Окна его комнаты были ровно напротив, поэтому действовать следовало быстро и бесшумно.
Вернувшись в класс, я заявил, что Эмиль ищет добровольцев на эту ночь: у него есть план мести.
– Что за план?
– Ему нужен судья, писарь и свидетель. Устроим суд. Судьей будет сам Эмиль.
– А ты кем будешь?
– Палачом. Если понадобится.
– Он хочет судить доктора Форе?
Я мотнул головой.
– Лучше. Его собаку.
Маркус, староста нашего класса, радостно заулыбался. Я понял, что если все получится, Эмиль будет прощен. Доктор Форе души не чаял в своей гадкой псине. По ночам она сидела во дворе и громко выла на любой шум, мешая всем спать. Дважды в день чудовище выгуливали. По общему мнению, собака была самой злобной тварью в школе – после ее хозяина, разумеется. Мальчишки принялись увлеченно составлять список обвинений.
Когда на смену сумеркам пришла ночь, все кроме Эмиля знали, что он поклялся жестоко отомстить доктору Форе. Мою новость он встретил широко распахнутыми глазами. Губы у него были искусаны, лицо опухло, нос покраснел от безутешных рыданий. Я велел ему умыться холодной водой, которую прислала нам жена директора. Пока он стоял, разинув рот, я водрузил тазик на подставку, налил в него воду, схватил его за голову и окунул в таз. Он вынырнул и едва не набросился на меня с кулаками.
– Тогда умывайся сам!
Он стал шумно плескаться в тазу, заливая водой форму – ни он, ни я переодеваться ко сну не стали, ведь нам предстояло важное дело. Я объяснил Эмилю, что от него потребуется. Он видел своего отца в зале суда? Так вот пусть станет своим отцом. Все серьезно.
– Я буду судьей?
– Да. Ты обвиняешь, а Маркус защищает. Но последнее слово за тобой, и приговор объявишь тоже ты.
– А как мы утихомирим пса? Он же будет лаять. Форе проснется и увидит нас! – Тут ему пришла в голову еще одна мысль. – И как мы проберемся во двор? На ночь его запирают.
– В том-то и вся соль.
Маленький двор относился к жилищу Форе. В него выходило множество окон и две двери: одна вела в школьный коридор, другая – в комнаты учителя. Первую он запирал вечером, а вторую – когда выводил собаку на улицу. Ключи от обеих дверей были только у одного человека. Ну, может, еще у директора, но прямой доступ имел лишь доктор Форе.
– Мы не станем выходить во двор. Суд пройдет на крыше, прямо над дверью Форе. А зверя мы утихомирим вот этим…
Я вытащил из-под куртки липкий мешок.
Эмиль в ужасе уставился на кусок сырого мяса, затем попятился и, по-видимому, стал заново обдумывать мое предложение.
– Что это?
– Кошка мадам Форе. Один кусок я взял… для экспериментов. – Я не стал говорить, что поджарил этот кусок с луком и съел: кусочки мяса застряли у меня в зубах и до сих пор были там. – Остальное здесь. Должно хватить.
От моих «взрослых» речей глаза у Эмиля распахнулись еще шире, и я чуть было не улыбнулся, но успел взять себя в руки. Все серьезно. Никаких шуточек, а то нам не удастся провернуть дело. Неужто мой друг всегда был такой тощий? Такой слабый? Глаза Эмиля заблестели, от страха он снова начал обкусывать губы. В моем представлении он всегда был старше и сильнее меня… мальчик, который дал мне тумака и хотел отобрать мои каштаны. Но сегодня я смотрел на него сверху вниз.
– Ты убил их кошку?
– Она была жирная и мерзкая.
– А какой приговор я… – с тревогой начал Эмиль.
– Смертная казнь. Через повешение. Приговор вступит в силу немедленно.
Он повторил мои слова одними губами, пытаясь их осмыслить. Затем пришло время встретиться с остальными мальчиками на чердаке. Если бы нас поймали ночью в коридорах, то выпороли бы нещадно. Подгоняемый мной Эмиль с трудом взобрался по ступеням, лицо у него было осунувшееся и тревожное после вчерашней порки. Над нашими головами висела треснутая арфа, вокруг валялись прогнившие до дыр кожаные портфели и рапиры. Сломанные клинки оказались нам как раз по росту: Маркус схватил одну и бросил другу, но оживленный поединок пришлось прекратить яростным шипением.
– Оставьте рапиры здесь, – шепотом велел Эмиль. – Возьмете на обратном пути.
Вообще-то Маркусу никто был не указ, однако новый статус Эмиля придал его словам веса. Маркус положил сломанный клинок на пол, и его друг поступил так же.
В дальнем углу чердака был выход на крышу. Обычно мальчишки приходили сюда на спор – срезать свинец с защитных фартуков; металл расплавляли и выливали в холодную воду, где он застывал причудливыми кляксами. Мы поднялись вдоль трубы, расположенной на стыке двух крыш, и спустились на другую сторону, к перилам над внутренним двориком, где доктор Форе держал свою собаку. Был конец лета, в воздухе стоял смрад недавно унавоженных полей. Вокруг расстилалось темное море без единого огонька. Крестьяне жили как скот: вставали и ложились вместе с солнцем, безропотно подчиняясь временам года.
– Господь навонял, – сказал Маркус. Кто-то хихикнул, кто-то попросил Маркуса не богохульствовать. Не обращая на них внимания, я сунул руку за пазуху.
– Можно? – спросил я Эмиля.
Он уставился на меня запавшими глазами, подсвеченными желтой луной, и едва заметно закачался на месте.
– Ты судья. Я хочу заняться собакой. Можно?
– Давай, – сказал он.
Я открыл сумку, вытащил оттуда окровавленный кусок мяса и бросил вниз: он шлепнулся на булыжники внутреннего двора. Его приземление было встречено громким лаем – Маркус выругался, Эмиль застонал, но лай тут же затих и сменился чавканьем. Никто не зажег свет и не открыл окно. Чавканье утихло, и пес заскулил, прося добавки.
– Сюда. – Я поманил к себе остальных.
Все столпились вокруг меня, и мне пришлось проталкиваться через них к Эмилю. Он стоял на краю крыши, белый, как простыня.
– Не трусь, – прошептал я.
Эмиль поднял голову, и его лицо внезапно переменилось, словно в доме поселились новые хозяева. Он уверенно прошел сквозь толпу к перилам и посмотрел на безобразную псину.
– Брось еще кусок, – приказал он.
Собака принялась за кровавое мясо и подняла голову, чтобы выслушать обвинения.
– Ты обвиняешься в том, что принадлежишь доктору Форе. А так же в том, что скверностью своего нрава не уступаешь хозяину. Ты обвиняешься в уродстве и беспардонном поведении. Признаешь ли ты свою вину? – Зверь заскулил, выпрашивая еще кусок мяса, и Эмиль кивнул. – Обвиняемый не признает вину.
Я бросил обвиняемому еще кошатины и испугался, что мяса до конца суда не хватит. Эмиль, по-видимому, подумал о том же: он обратился к адвокату, приказав ему говорить коротко и по сути, а свидетелю – внимательно следить за происходящим. Очень важно, чтобы все было по справедливости.
Такого Эмиля мы еще не видели. От сопливого нытика, прокравшегося в класс на волне собственных слез, не осталось и следа.
– Начинайте, – велел он.
– Наказывать собаку за грехи владельца – все равно что наказывать слугу за послушание хозяину. Животное ни в чем не виновато. Если бы пес принадлежал мне или вам, а не доктору Форе, он был бы ровно такой же. Стали бы вы его судить в таком случае?
Два мальчика тихо захлопали, и я одобрительно кивнул. Речь была хорошая, понятная каждому и ясно излагающая суть возможной ошибки. Но что скажет Эмиль?
– Собаке выдвинули два обвинения. Оба – очень серьезные. Она принадлежит доктору Форе и обладает ужасным нравом, а так же омерзительной внешностью. Самое же страшное заключается в сочетании этих грехов. Когда двое преступников вместе задумывают совершить преступление – это заговор. В нашем случае налицо преступное сочетание двух грехов. Суд требует, чтобы вы доказали справедливость двух утверждений: что пес не омерзителен, и что он не принадлежит доктору Форе… Жан-Мари, еще мяса.
Я бросил кусок вниз, когда адвокат начал спешно подводить итоги. Он сказал, что не может доказать ни то, ни другое, однако бедный пес не знал лучшей жизни и лучшего обращения, он попал в дурное общество и не должен страдать за чужие грехи.
Эмиль остался непреклонен.
– Преступления такого характера не должны сходить с рук. – Он посмотрел на мальчика, который играл роль свидетеля. – Вы признаете, что суд был проведен в полном соответствии с законом?
Мальчик важно кивнул.
– В таком случае мне остается лишь объявить приговор. – Эмиль перегнулся через перила, чтобы хорошо видеть собаку. Та завиляла хвостом и заскулила, выпрашивая угощение. – Мольбы тебе не помогут. Ты признана виновной в обвинениях столь серьезных, что кара за них может быть лишь одна… – Эмиль помедлил. – И кара эта – смерть!
Наши одноклассники удивленно переглянулись, и Эмиль поднял брови: зачем же еще, по их мнению, мы забрались на крышу?
– Приведите приговор в исполнение, – решительно приказал мне Эмиль.
Я полез за пазуху, где лежала веревка с петлей на конце, но остановился.
– Пусть приговоренный закончит последнюю трапезу…
Остатки мяса плюхнулись на булыжники, и собака жадно их проглотила, восторженно виляя хвостом и облизываясь. Меня замутило от мысли о предстоящей казни, и я проклял себя за то, что предложил такой план. Пес, почти не жуя, заглотил последний кусок кошатины. Когда он поднял голову и вновь заскулил, моя петля упала ему на голову, и я с силой дернул веревку на себя: ярость сделала меня беспощадным. Я тянул и тянул веревку, и собака быстро поднималась, пока я на секунду не ослабил хватку. Зверь полетел вниз и резко остановился. Падение сломало ему шею. Все было кончено в считанные секунды.
– Помогите, – в отчаянии проговорил я.
– Что надо делать? – недоуменно спросил Маркус.
– Втащить труп на крышу. Не можем же мы его оставить.
От волнения они, похоже, не подумали об этом. Собачий труп неминуемо указал бы на убийц. Животное должно было исчезнуть. Тогда слуги решат, что это колдовство, и директору придется все свои силы бросить на то, чтобы развеять их глупые предрассудки. Выстроившись гуськом, мои одноклассники стали тянуть веревку, а я следил, чтобы труп повешенного пса не стукался о стену. Наша жертва была уже практически на крыше, когда я поднял глаза и обмер.
– Что такое? – вопросил Эмиль.
Я схватил петлю и втащил собаку на крышу.
– Ничего. Померещилось.
Из окна напротив за нами наблюдала девочка. Белая, как привидение, она стояла в черном мраке комнаты. Волосы у нее были распущены, на теле – лишь тонкая сорочка. Клянусь, даже с такого расстояния я увидел на ее лице улыбку.
– Спокойного сна, – сказал я Эмилю.
– А ты… сам?..
– Да. Я избавлюсь от трупа.
Все предложения помощи от других мальчишек я отверг. Хорошо ли спал Эмиль в ту ночь и насколько сильно болели его иссеченная спина и ягодицы, я не знаю. Однако благодаря мне у него появилась возможность спокойно спать – не боясь, что завтра его поколотят одноклассники. Их раскаяние посетит лишь несколько часов спустя.
А я? Довольный собой и своей добычей, я брел по лесу к мерцающей в темноте мелкой речке, что текла вдоль школьных владений. В ее водах предстояло упокоиться очередной собаке. Завтра утром она будет уже в милях от нас, и никто не обратит внимания на раздувшийся собачий труп. Достав складной ножик, я срезал кусок со спины, промыл мясо в воде и завернул в листья щавеля. Утром я зажарю его на открытом огне, подальше от любопытных взглядов. Бредя по сухой листве и слушая леденящее кровь совиное уханье, я уже воображал, как предложу кусочек дочери доктора Форе.
Что едят китайцы
Эмиль заявил, что влюбился в девчонку, что пасла рядом со школой деревенских гусей. Ободранное и грязное дитя ежедневно брело куда-то со своим стадом, рассеянно погоняя палкой птиц. Однажды мы подкараулили ее в тени дубовой рощи, через которую пролегал ее путь, и за разрешение пройти дальше потребовали с нее поцелуй. Но она воинственно схватила свою дубинку, точно галльская королева, и окружила себя гогочущими гусями: в награду за такую отвагу мы отпустили ее нецелованной. Эмиль утверждал, что потом все равно ее поцеловал. Никто ему не поверил; даже я – его лучший друг.
На самом деле она принцесса, просто скрывается, заявил он. Многие пастушки на самом деле принцессы, ну или незаконнорожденные дочери злых королей и герцогов. Эмиль редко давал своей фантазии разгуляться, но эта его выдумка превратилась в длинную и запутанную сказку, которую он втихомолку рассказывал себе, прячась по углам и важно кивая каким-то своим мыслям. Одноклассники решили к нему не приставать. Все-таки он судил собаку доктора Форе и признал ее виновной. Пусть Эмиль невысок, простоват и слишком прямо демонстрирует свой незаурядный ум, но все же он наш человек. А мы – самый лучший, самый храбрый, неугомонный и отчаянный класс, который знала эта школа.
И всех нас связывала одна ложь. Наутро после того, как мы казнили собаку доктора Форе за грехи ее хозяина, в класс явился директор школы. Он спросил, не слышали ли мы ночью каких-нибудь странных звуков. Директор столь пристально вглядывался в наши лица, что я начал гадать, нет ли у него каких-нибудь тайных подозрений на наш счет. За его спиной стоял доктор Форе, бледный и с плотно поджатыми губами. Весь день он избегал смотреть нам в глаза.
Мы качали головами, вопросительно переглядываясь, и вообще всеми способами изображали удивление и недоумение.
– А что мы должны были слышать, господин директор? – первым заговорил Маркус, подавая пример остальным. Все-таки он был хороший староста.
– Прекрасный вопрос, – ответил директор. – Минувшей ночью пропала собака доктора Форе. – Глаза директора как будто остановились на мне. Почему не на Эмиле, ведь последней жертвой доктора Форе был он?.. – Исчезла со двора, ключи от которого были только у вашего учителя и у меня.
– Колдовство, – пробормотал один мальчик.
Директор нахмурился, сунул руки в карманы, чуть нагнулся и строго велел мальчику не говорить глупостей. Хватит с нас суеверных кухарок. Колдовство – редкое и серьезное преступление, большой грех и карается смертной казнью. Обслуга ошибочно полагает, что это самое обычное дело, но от нас он ждал большего. Мальчик принес извинения и, как только директор отвернулся, исподтишка бросил мне улыбку.
– Неужели никто ничего не слышал? – расхрабрился я.
Директор пронзил меня долгим и пристальным взглядом.
– Нет, – наконец ответил он. – Дочь доктора Форе спит в комнате, окна которой выходят в тот самый двор, но и она ничего не слышала. Говорит, спала как ангел… – От этих слов его губы слегка скривились: видимо, они принадлежали ей. Теологи сомневаются, что ангелам вообще нужен сон.
– Может, собака сбежала? – невинно предположил Маркус.
Директор обернулся на доктора Форе, как бы призывая его ответить. Тот промолчал, и директор мотнул головой.
– Маловероятно. Стены высотой в три этажа, крыша покатая… Не крылья же у нее выросли, в конце концов!
– Как у ангела… – добавил Маркус.
– В самом деле. Если вы что-нибудь заметите или узнаете…
– Разумеется, господин директор, мы тут же сообщим. А днем устроим поиски. Я разделю класс на две команды, и мы обыщем все школьные владения, не сомневайтесь!
– Не сомневаюсь.
– Могло быть и хуже, – пробормотал Эмиль. Весь класс замер, а директор пристально уставился на него. Лицо Форе превратилось в каменную маску, словно бы его подозрения подтвердились. – Конечно, это ужасно, что собака пропала. Да еще с запертого двора. Но ведь могло быть и хуже! Если бы пропал кто-нибудь из семьи… Дочь доктора Форе, к примеру.
– В самом деле, – медленно проговорил директор, причем уже совсем иным тоном, чем прежде.
Мальчишки беспокойно заерзали на своих местах. Наконец директор вышел из класса, а доктор Форе задал нам переводить страницу из учебника латыни и погрузился в свои мысли. Сгорбленный и опечаленный, он сидел на деревянном стуле с высокой спинкой и вселял жалость. Мясо его собаки, завернутое в листья, по-прежнему лежало у меня в кармане. Мне захотелось выбросить его в выгребную яму и навсегда забыть о минувшей ночи. Но я еще никогда не пробовал собаку. Пусть бедное животное не заслужило смерти, зато хмурый тиран, что сидел передо мной на стуле, заслуживал самой жестокой кары.
Эмиль быстро и точно перевел заданный текст, а я, поскольку учебник у нас был один на двоих, попросту списал все у него. Я мог перевести и сам, но это заняло бы вдвое больше времени: все мои мысли были лишь о прекрасной дочери доктора Форе, моей тезке, девочке по имени Жанна-Мари.