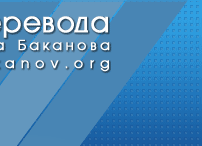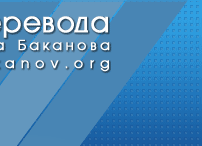пер. Екатерины Доброхотовой-Майковой
Пенелопа Лайвли
Невыносимо жаркое лето
1
Начало мая, середина дня, коттедж с поэтическим названием «Дали». Полина у себя в кабинете, глядит в окно – не на сочную зелень полей, уходящую к холодной голубизне неба, а на Терезу, которая стоит снаружи с Люком на руках и смотрит вдоль проселка на шоссе. Полина видит Терезу двояко: во-первых, как свою дочь, которая держит на руках сына и ждет мужа, во-вторых, как архетипический образ молодой женщины с ребенком, матери с младенцем. Эта картина тянет за собой целых ворох ассоциаций. Мать и дитя, пшеничное поле, две разбитые колеи проселочной дороги – путь в неведомое. Через одну призму Тереза – героиня Гарди, уж наверняка обманутая и брошенная, трагическая фигура. Через другую – лирический образ молодости и обновления. А для Полины сквозь нее проступает целая череда личных ассоциаций, других версий Терезы, звеньев цепи, которой они обе неразрывно скреплены с прошлым. Сейчас майский день в «Далях» и вместе с тем – отрезок двух жизней. Даже трех, если считать Люковы год и три месяца.
Вообще-то Тереза стоит там не просто так. Она уже заметила солнечный блик на лобовом стекле Морисовой машины, когда та сворачивала с шоссе. А вот и сама машина: ползет, словно черный лоснящийся зверь средь зеленого колыхания. Люк тоже ее приметил, его маленькое тело исполнено внимания и предвкушения. Он поворачивает голову и указывает всей пятерней. «Па! – кричит Люк. – Па!» Это он объявляет: «Едет мой папа!»
Полина слышит его в открытое окно. Она тоже следит за подъезжающим автомобилем, видит, как он сворачивает с проселка к тому месту у дома, которое отведено для парковки. Морис открывает дверцу, вылезает наружу, целует Терезу, и они вместе идут в свою половину сдвоенного дома. Полина отворачивается от окна и смотрит на письменный стол. Берет карандаш, делает пометку в рукописи.
«Дали» сами по себе архетип и как таковой обманчивы. Это серое каменное здание на склоне холма где-то в центральной части Англии. Холм за домом венчается купой дерев, которые изящными силуэтами чернеют на фоне неба. Вид с дороги, если правильно его сфотографировать, может служить рекламой автопрома (чтобы сюда добраться, нужна машина), хлебопромышленности (здесь выращивают самую экологичную пшеницу), туриндустрии (приезжайте сюда, и вы сможете любоваться такими же красотами). Кажется, будто дом так и застыл в начале девятнадцатого столетия: двухэтажный коттедж на три семьи, сложенный из камня, добытого в карьере неподалеку, и крытый местным шифером. Дом уютно притулился среди полей, как будто возник тут сам по себе, вырос из каменного скелета здешней земли. Это эманация времени и места.
В реальности «Дали» зависли среди пасторальных холмов фантастической машиной времени – темпоральной капсулой, внутри которой негромко гудит техника: компьютеры, телефоны, факсы. Микроволновки, холодильники, телевизоры, видеомагнитофоны. «Дали» тщательно замаскированы, словно командный бункер, оборудованный на случай ядерной войны и надежно укрытый дерном.
Здание полностью выпотрошено. Три жилища превращены в два, от старой конструкции остались оконные проемы, камины, несколько старых дубовых стропил и лестница. Парадная дверь левого коттеджа, того, что побольше (в нем теперь живут Тереза и Морис), открывается прямо в просторную кухню-столовую. Дальше в новой пристройке – гостиная окнами на общий сад. Эргономичная винтовая лестница ведет из угла кухни в спальню и санузел на втором этаже. В мансарде у Мориса кабинет.
Коттедж поменьше, тот, где живет Полина, устроен совсем иначе. Кухня и столовая расположены симметрично по двум сторонам узкой прихожей, из которой по лестнице можно подняться на второй этаж. Лестница – та самая, что сохранилась от старой планировки, – невозможно крутая, с узкими высокими ступеньками. Полина поставила с обеих сторон перила и все равно опасается за гостей. По-хорошему лестницу надо было заменить при реконструкции, но тогда она казалась трогательной и неотъемлемой частью дома, а сейчас нет сил снова затевать мороку с рабочими и грязью.
Разумеется, везде светло и тепло – всюду проведено электричество и центральное отопление. По всему дому тикает автоматика, на индикаторных панелях сменяются зеленые циферки. Телефоны несут круглосуточную вахту. Компьютеры и факсы стоят наготове в кабинетах Мориса и Полины. Оба могут войти в глобальную коммуникационную сеть, затребовать информацию из библиотек в другой части страны. «Дали» – волк в овечьей шкуре. Он укоренен во времени и пространстве не больше, чем кабина пилотов «Боинга-747».
Странное название для коттеджа. Полина пыталась выяснить, откуда оно взялось, с тех самых пор, как десять лет назад приобрела дом, и ничего не могла узнать, пока Морис не объяснил: в прошлом веке модно было давать стоящим на отшибе коттеджам имена, в которых хозяевам слышалась географическая экзотика: романтическая или чуть ироническая. «Дали». «Край земли». «Ботани-бей». «Тасмания». «Утопия». «Райские кущи». Морис сообщил это, стоя на проселке напротив дома в свой первый приезд, еще до женитьбы, – сообщил небрежным тоном, будто повторяя общеизвестное.
Сейчас, сидя у себя за столом, Полина делает быструю пометку в чужой рукописи, вновь смотрит на дорогу и видит призрачного Мориса, который роняет это замечание. В его взгляде, как всегда, когда он делится своей обширной эрудицией, сквозит самоирония; Полине интересно и одновременно чуточку неприятно. На миг в памяти возникает Тереза, она стоит в сторонке, пока Полина и Морис беседуют о коттедже, смотрит только на Мориса, целиком погруженная в свою любовь, пропавшая с концами.
Тереза и сейчас, три года спустя, по-прежнему влюблена в Мориса. Это видно любому. И особенно Полине. Она видела это десять минут назад, когда Тереза ждала Мориса, в ее позе, в повороте головы, в том, как она бралась за ограду и тут же отдергивала руку. И, видя это все, Полина в точности знала, что Тереза чувствует. Могла в любой миг поменяться с нею местами: стать не Терезой, а Полиной в другой день, в другое десятилетие, в таком же ожидании.
А вот и он – не подъезжает на машине, но быстро идет через толпу на вокзале Виктория. Полина видит его издали, однако не бежит навстречу, а стоит, где стояла, потому что эти минуты – самые сладкие: электрический трепет узнавания, когда она замечает его среди других пассажиров, ни с чем не сравнимое ощущение полноты жизни, когда все чувства обострены. Она будет длить это дивное предвкушение. Вот он уже в нескольких ярдах, улыбается, машет рукой. Вот заключает ее в объятия. Гарри. Она чувствует его кожей, слышит его запах. И ничего лучше на свете нет.
Удивительно: сейчас, когда эти секунды возвращаются к ней в «Далях», ощущения куда отчетливее и ярче зрительных образов: платформы, лица Гарри. Сам Гарри – не более чем условный раздражитель, включающий воспоминания о пережитых чувствах.
Полина прочитывает еще страницу рукописи, которую сейчас редактирует. Исправляет орфографическую ошибку, тактично обращает внимание на повтор слова. Затем отодвигает рукопись на край стола, зевает, потягивается и несколько мгновений сидит неподвижно в подступающих майских сумерках. После серой холодной весны внезапно наступило тепло. Уже и впрямь верится, что будет лето. Сегодня она впервые работает с открытым окном. В другой половине дома окно, видимо, тоже открыто. Слышен голос Мориса – неразборчивый гул речи, вероятно, он говорит по телефону. Он часто говорит по телефону.
«Далям» примерно сто семьдесят лет. Полине пятьдесят пять. Терезе двадцать девять. Морису сорок четыре.
Полина купила коттедж на деньги от продажи родительского дома после смерти матери – та пережила отца всего на два года. Тогда Полина еще работала редактором в лондонском издательстве. Тереза училась в художественном колледже. Морис еще не возник в их жизни и поэтому в планах не учитывался. Вообще-то в то время он зарабатывал себе репутацию молодого писателя-бунтаря, автора книг о необычных аспектах истории, льстящих читателю сплавом научной глубины и занимательности. Искрометный рассказ о табачной индустрии, смелая книга о маркетинге в области продажи старинных поместий. Сейчас Морис занимается историей туризма – большой проект, в котором речь пойдет о том, как естественная и созданная человеком среда эксплуатируется в коммерческих целях. Идут переговоры с крупным продюсером: есть идея запустить серию телепрограмм по будущей книге. Естественно, это подогревает интерес издателя. Из занятного автора необычных книжек Морис превратился в потенциально выгодное коммерческое вложение.
Из-за этой самой книги Тереза и Морис перебрались в «Дали». Пока они не поженились, Полина сдавала большой коттедж, а маленький держала для собственных нужд. В нынешнем году Морис объявил, что они проведут в «Далях» все лето – ему нужно целиком сосредоточиться на книге, которая в черновике уже готова. Разумеется, он планирует наездами бывать в Лондоне, уточнять кое-какие частности, а его редактор, Джеймс Солташ, будет наведываться на выходные, чтобы вместе с ним работать над рукописью. Этим летом «Дали» станут редакторским цехом.
Полина уволилась пять лет назад и теперь работает дома внештатным редактором. Она нарасхват, поскольку известна в издательском мире как очень грамотный и ответственный специалист, поэтому загружена ровно настолько, насколько ей хочется, и проводит дни, спасая авторов от семантических грехов и ляпсусов, допущенных в творческом порыве. Она прочесывает романы, следя, чтобы глаза героини не превратились на середине книги из голубых в серые, весна не сменилась осенью, а за понедельником не наступило воскресенье. Помечает вопросительными знаками неловкие предложения, тактично напоминает, что тире и двоеточие не всегда взаимозаменяемы. Рукописи, над которыми работает Полина, усеяны ее бесстрастными и лаконичными комментариями: вопросами касательно смысла темных или переусложненных мест, указаниями на избитые обороты. Автор, разумеется, волен поступить, как его душе угодно. Многие, поупиравшись в той или иной степени, примут всю или почти всю правку, несгибаемое меньшинство будет отстаивать принцип авторской непогрешимости до последней запятой. Полине скорее нравятся эти споры, подкрепленные словарными статьями и литературными прецедентами. И конечно, ей самой убиваться не с чего: будь ее воля, пусть бы так и предстали перед читателями во всем блеске своих синтаксических уродств. Хозяин – барин. Она свое дело сделала, причем сделала с удовольствием, сидя за столом долгими тихими днями, иногда поднимая взгляд к окну, чтобы отметить перемены в освещении поля, изредка вставая, чтобы взять справочник или сварить себе кофе.
Поле за окном она знает, как родное – диапазон его настроений и цветов, то, как оно меняется в зависимости от времени года. Здесь посеяна озимая пшеница, так что сейчас, в мае, поле покрыто густым зеленым подшерстком. Оно большое и в хороший год дает шестьдесят тонн зерна. Значит, изумрудное меховое одеяло, идущее на ветру серебристой рябью, стоит примерно пять тысяч фунтов. Полина узнала эти факты от Чонди – фермера, у которого купила «Дали». Чонди не слишком дружелюбен, они просто знакомые, не приятели, иногда встречаются на проселке и тогда из вежливости должны обменяться несколькими словами. Во время одной таких встреч Полина и вытянула у него сведения о поле.
– Подумываете заняться сельским хозяйством? – с ехидцей спросил Чонди.
– Нет, конечно. Просто я все время на него смотрю, вот и решила хотя бы что-то о нем узнать.
Чонди не заинтересовало любопытство Полины. Он отвечал нехотя. Площадь. Урожайность. Сама Полина его тоже не интересует, если на то пошло. Она – просто женщина, с которой он когда-то заключил сделку, поэтому теперь живет неподалеку, но к его кругу не принадлежит. У них нет повседневных общих дел. Она не работает на Чонди, не продает ему удобрения, не покупает его зерно, не разделяет его забот. Она вне его мира, если не считать чисто физического соседства.
Чонди – крупный фермер. Сейчас мелких не бывает. У него земли здесь и в соседней долине. А еще кемпинг в десяти милях отсюда и плодовый сад, где приезжающие сами собирают фрукты, с магазином сельхозпродукции и рестораном. И птицефермы, где выращивают бройлерных кур. Чонди вряд ли сам ковыряется в земле. Он все больше разъезжает между своими хозяйствами на довольно новом, но уже видавшем виды «пежо», раздает указания подчиненным. На Чонди работает целая куча народу, по большей части за очень маленькие деньги.
В левом дальнем углу поля, где начинается соседнее, из-за холма выползает ядовито-желтый треугольник масличного рапса. Полина не знает, каково ее отношение к рапсу. Эстеты разделились на два лагеря. Одни находят его жизнерадостным – яркий цветовой мазок. Пуристы – как всегда, более громогласные – считают его фальшивой нотой, нарушающий сдержанный колорит английского пейзажа. К рапсу относятся как к иноземной заразе – из-за сельскохозяйственной политики ЕЭС он стал коммерчески выгодной культурой и вдобавок к вызывающему цвету приобрел зловещие политические обертоны. Полина, глядя в окно на лимонно-желтый вымпел, испытывает смешанные чувства. Иногда он наводит ее на мысли о теплом юге, о подсолнухах и тогда впрямь кажется жизнерадостным. Иногда воспринимается как агрессивный всплеск на линии горизонта. В любом случае рапс не навсегда. К июню его уберут – еще одна перемена в череде бесконечных вариаций вида из окна.
Итак, это майский вечер в «Далях», время, когда Полина прибирается на столе, выходит из кабинета и по старой опасной лестнице спускается в кухню – посмотреть, что есть в холодильнике на ужин. И еще это Полина, Тереза, Люк. Мать, дочь, зять и муж. Соседи, родственники, настроенные приятно провести лето в работе и дружеском общении.
2
Десять часов следующего утра. Полина, Тереза, Морис и Люк в просторной кухне-столовой Терезиного коттеджа.
Тереза говорит с Люком – воркование матери с ребенком, поток малозначащих слов для взрослого уха, поразительное откровение для детского. «Вот так, – говорит Тереза. – Теперь штанишки. Одна ножка… другая… Сегодня штанишки красные. Молодчина». И Люк чувствует, что звуки, которые он слышит, таинственным образом соединены с вещами, которые он видит. «Па! – говорит он. – Па!» А может, «ба» или «во». Его звуки еще ни к чему не привязаны, не только к предметам, но даже к гласным и согласным. Это просто звуки. Радио рассказывает про выборы в Италии, взрывается музыкальной заставкой, сообщает о резне в Руанде. Полина читает письмо. Она смотрит на Терезу и говорит. «Джейн зовет в сентябре в Венецию. Может, съезжу на неделю». «Поезжай, конечно, – отвечает Тереза. – Хочешь банан, Люк? М-м? Ням-ням?» Морис в телефон: «Значит, жду вас обоих в эти выходные. Отлично. Да, Джеймс, ты не мог бы раздобыть для меня «Путешествие по всему острову Великобритании» Дефо? Спасибо».
В помещении целый ураган звуков – они бомбардируют Люка со всех сторон, проносятся через его голову, словно космические частицы. Его окружают впечатления: белый шум языка, сверкание зримого мира. Комната и день наполнены блеском открытий и новизны. Металлический бок чайника, в котором отражаются синие цветы в вазе, ножки стула, скрипящие по полу, когда папа встает. Он еще ничего не знает и оттого всему дивится. Люк принадлежит другому уровню бытия, отличному от того, в котором живут Тереза, Полина и Морис; он видит то, чего они не видят, слышит то, что они не различают. Из всех четверых только Люк постоянно открыт для восприятия. Он сидит на коленях у Терезы, гость из мира утраченных возможностей, и говорит: «Па!». И Тереза расплывается в улыбке. «У него снова началась потница», – говорит она Полине.
Теперь Морис у окна, пьет кофе. Поворачивается, отводит чашку от губ.
– В воскресенье надо будет куда-нибудь съездить, если погода не испортится. На выходные заглянут Джеймс и Кэрол. Джеймс хочет еще раз пройтись по шестой главе.
– Я сегодня поеду в Хэдбери в большой магазин, – отвечает Тереза. – Может, запеку баранью ногу.
Полина убирает письмо в карман, спрашивает:
– Кэрол?..
Морис уже взял газету, рассеянно просматривает первую страницу.
– Подруга Джеймса, – объясняет Тереза. – Кэрол… Морис, как ее фамилия? Впрочем, неважно. Они приедут в пятницу или в субботу, Морис?
– В субботу утром. – Морис откладывает газету, допивает кофе, идет к двери. – Итак, назад к станку. – Он глядит на Полину, улыбается одной половиной рта – его характерная, обезоруживающая улыбка. – А вы что сейчас шлифуете? Что-нибудь интересное?
– Не особенно, – отвечает Полина. В ее тоне звучит чуть заметное раздражение. Может быть, потому, что она распечатала следующее письмо и вытаскивает металлическую скобу, которой сшиты страницы, а это всегда нервирует.
Морис поднимается по лестнице. Обе женщины слышат, как закрывается дверь его кабинета. Полина успешно извлекла скрепку и теперь читает бурные объяснения автора, который в порыве чувств сшил страницы не по порядку. Она по-прежнему видит поверх текста лицо Мориса, словно Чеширского Кота, и думает о лицах – об их присутствии в мозгу. Лицо – образ, такой же бесплотный, как интонации речи или походка. Лицо можно описать, но нельзя целиком передать словами.
У Мориса лицо треугольное. Лоб крупный, глаза широко расставленные, нос тонкий и острый. Плоские щеки сходятся к узкому подбородку. Волосы густые, каштановые, стоят шапкой. Слова дают представление о том, как Морис выглядит, и по ним можно составить фоторобот, но они не передают индивидуальности черт – того, благодаря чему каждый знающий Мориса может в любое мгновение вызвать в памяти его лицо, а Люк – узнать отца в толпе других людей и крикнуть: «Па!».
Лицо Люка – собрание ассоциаций. Полина видит Мориса в широко расставленных детских глазах. Видит нос Терезы и намек на ее изогнутые брови. Видит что-то от себя – то выражение, которое замечает в зеркале и, временами, в Люке, когда тот поворачивает голову и на нее смотрит. И еще – эхо своей матери и отблеск своего отца, а как-то раз поймала отзвук тетки, которую почти не знала, но запомнила ее своеобразную внешность по фотографии в семейном альбоме. Люк как будто примеряет эти черты и когда-нибудь со временем найдет им приемлемое сочетание.
У Терезы лицо овальное, кожа светлая, глаза темные, брови густые. Темно-каштановые волосы зачесаны назад от высокого лба и завязаны сзади лентой. Когда Полина глядит на дочь, то видит это все, а еще серьезное, чуть озабоченное выражение. Но одновременно она видит и другое, различимое только для нее – призрачный отголосок себя, который каждый родитель ощущает в ребенке. Тереза и Полина непохожи – у Полины лицо шире, более плоское, рот крупнее, глаза – зеленовато-серые, волосы – медно-рыжие с проседью. И все равно этот отголосок есть – неуловимый, неформулирумый и в то же время неоспоримый. Вот она, думает Полина. Тереза. И в то же время я. И – никуда от этого не денешься – Гарри.
– Еще кофе? – спрашивает Тереза.
– Ммм… Спасибо.
Тереза, Полина и Люк одни в кухне. Все слегка изменилось, как будто ветер задул с другой стороны. Женщины говорят с чуть иными интонациями. Некоторые обертоны исчезли, другие появились. Только Люк, поглощенный своими заботами, все такой же.
– Когда поедешь за покупками, можешь оставить Люка со мной, – предлагает Полина.
Тереза в сомнении.
– Ты работаешь.
– Я могу прерваться и наверстать вечером. Я теперь сама себе хозяйка.
– Тогда хорошо, – говорит Тереза. – Спасибо. Тебе что-нибудь купить?
– Нескафе, – отвечает Полина. – Натурального йогурта. Фруктов. Дай подумать.
– Ага. – Тереза составляет список. Замирает и смотрит на стол. Покусывает губу. Может быть, думает о покупках. Может быть, нет.
Полина глядит на Терезу.
– Что у них там с книгой? У Мориса и этого Джеймса, как его там?
– Солташа. Вроде как переходят ко второй редакции.
– Морис очень плотно работает с редактором.
– Он говорит, Джеймс толковый. Он общается с киношниками и должен проследить, чтобы бы в книге все было как надо на случай, если с телесериалом все-таки получится.
– Ясно.
– Если я задержусь, Люку можно будет приготовить омлет, – говорит Тереза.
– А Морису? Ему тоже сделать омлет?
– Морис не успеет так быстро проголодаться.
Очень будничный разговор. Впрочем, полезный – договоренности достигнуты, сведения переданы. Есть отзвуки и отголоски, легкая рябь на поверхности. Обычные слова несут дополнительный смысл, в них эхо других событий, других разговоров, других воплощений Терезы и Полины. В каждой их интонации – некая сопричастность. Они говорят не просто о списке покупок и ленче, но о своей общей истории.
Когда Тереза молча смотрела в стол и покусывала губу, для Полины сквозь нее проступила на миг другая Тереза, глядящая в другой стол, на другой кухне совершенно другого дома. Та Тереза внезапно поднимает глаза и объявляет:
– Я не иду сегодня встречаться с Доном.
– Решила его прокинуть? – спрашивает Полина.
Тереза немного смущена.
– Да нет, не совсем… Просто с ним стало как-то немного скучно… и я подумала, лучше нам провести этот вечер по отдельности.
– Это называется «прокинуть парня», – наставительно говорит Полина. – Если ты тут все равно собираешься торчать и тебе нечем себя занять, сделай доброе дело, помешай вон в той кастрюле. Я через три часа жду двадцать человек.
Тереза краснеет до кончиков волос. Она сгорает от стыда. Тереза – добрая девочка, и это ее главная беда.
– Переживет, – говорит Полина. – Неделю пострадает и забудет.
– Спасибо, – чуть обиженно отвечает Тереза.
– Потому что он молод и здоров. А ты, значит, осталась на Новый год неприкаянная. Куда пойдешь?
– Буду справлять с тобой, – говорит Тереза.
– Вот как? Ну тогда тем более тебе есть резон мне помочь. Вот это намажем вон на то и замешаем какой-нибудь пунш.
– Кто придет? – спрашивает Тереза.
Одно эхо из многих – уже заглушенное внешней кутерьмой: Тереза собирает сумку, ищет ключи от машины, Полина берет хнычущего Люка на руки и выносит в сад, чтобы тот не видел, как мать уезжает.
Сад прямоугольником вдается в поле и состоит из трех длинных полос. Когда-то это были отдельные участки, на которых три семьи выращивали овощи. И цветы – их потомки упорно всходят каждый год. В дальнем конце растут старые яблони, к концу лета на них созревают плохонькие неказистые яблочки. Теперь эти клочки земли, когда-то – источник пропитания – объединены в один, заросший густой травой, которую ни у кого не доходят рук подстричь.
Окружающее поле маленькое и засажено не пшеницей, а молодой капустой – ровные ряды голубовато-зеленых листьев постепенно сливаются в сплошную пастельную полосу. Дальше за живой изгородью начинается склон холма – еще один лоскут озими. Однако это не такой зеленый ковер, как тот, который виден из кабинета. Здесь его разрезает ограда, а за ней в пейзаж врывается фальшивая нота – кайма осеннего золота, жухлой травы, неожиданной среди буйного майского роста. Цвет тем более неприятен для глаза, что это не мягкие охристые тона зимнего увядания, а неестественно желтые, словно участок обработали гербицидами. Так и есть. Поле выведено из хозяйственного использования согласно программе сокращения посевных площадей. Правительство платит фермерам, чтобы те ничего не выращивали. Чонди получает несколько сот фунтов за то, что ничего тут в этом году не сеял. Взошедшее самосевом опрыскали ядохимикатами, чтобы потом перепахать. Другие такие же безобразные пятна уродуют пейзаж, нарушая упорядоченное чередование пшеницы, овса, брюссельской капусты, порея, овец, коров и, разумеется, птицеферм, кемпингов и фруктовых садов самообслуживания. В этом есть горькая ирония: земля, на которой поколения фермеров работали не разгибаясь и все равно жили впроголодь, теперь стала чересчур урожайной. Она обгоняет экономический климат, и ее приходится опустошать гербицидами.
Иногда Полина думает о прежних обитателях «Далей» – настоящих сельских жителях, не отдыхающих. Она видит низкорослых людей, с кожей, черной от солнца и въевшейся земли. К пятидесяти пяти – ее возрасту – они по большей части были уже стариками, готовились лечь в ту самую почву, на которой горбатились всю жизнь. Они совсем иначе видели серебристый зимний иней на пашне или августовскую ниву. Очень мило а ля Мария-Антуанетта лечить усталую душу созерцанием природы. Когда-то тут все было не понарошку.
Люк направляется к яблоням, к высокой траве, еще мокрой от росы; сейчас весь вымокнет. Догоняя внука, Полина на миг видит траву его глазами: манящий край новых ощущений, киберпространство света и тени, что-то, что колышется, вздрагивает и шуршит. Она подхватывает мальчика, разворачивается и видит, что Морис выходит из стеклянных дверей им навстречу.
В руке у него чашка кофе. Морис весь день накачивает себя кофеином.
– Привет, – говорит он. – А где Тереза?
– Уехала за продуктами. У вас же в субботу гости, не забыли? Надо купить еды.
Морис улыбается – как всегда, одной половиной рта. Эта улыбка как будто создана, чтобы сглаживать трудности, вроде той, на которую намекнула Полина. Он смотрит вниз на Люка, который обнимает отцовские колени и просится на руки. Гладит его по волосам. Морис не предложил посидеть с Люком, пока Тереза в магазине, потому что это не пришло ему в голову. Судя по всему, он вообще не подумал, что надо будет съездить за покупками.
– Как пишется «гезельшафт»? – спрашивает он.
Полина отвечает.
– Мне казалось, вы пишете про британский туризм?
– Да. Но надо же внести элемент культурного эклектизма.
Он подносит чашку к губам и смотрит на Полину тем проникновенным взглядом, который составляет существенную часть его обаяния. Те, на кого Морис так смотрит, чувствуют себя польщенными и тянутся к нему.
Однако на Полину, знающую этот взгляд, чары не действуют. Она видит Мориса, который глядит на нее поверх белой с синим рисунком чашки в саду «Далей», и он сменяется для нее другим Морисом. Тот Морис облокотился на каминную полку в лондонской квартире Полины, держит у губ бокал с вином и смотрит на полную комнату гостей.
– Так значит, это и есть ваша дочь? – спрашивает он. Красное вино в бокале мерцает, освещенное лампой, глаза Мориса внимательно сощурены.
Люк не отстает, и Морис неловко берет его на руки. Для человека с таким быстрым и гибким умом Морис на удивление неуклюж. Он все роняет и обо все спотыкается. Плохо водит машину. Не в состоянии привинтить розетку или поменять шину. Отчасти его нескладность объясняется легкой хромотой – следствием детской травмы. При ходьбе он немного припадает на одну ногу. Однако хромота не объясняет неловкости, особенно заметной сейчас, когда Морис никак не может пристроить Люка на руках. И, разумеется, он очень поздно стал отцом. В сорок четыре трудно осваивать новые навыки.
Морис боится своего возраста, не хочет верить, что старость подкрадывается к нему так же, как к любому другому. Полина замечала эти приступы паники, его желание окружить себя молодежью, лихорадочный поиск свежих интересов, свежих знакомств. И, разумеется, молодящиеся мужчины часто предпочитают женщин много младше себя.
До того, как Морис женился на Терезе, они с Полиной были шапочно знакомы года три. Его книги выходили в том же издательском доме, где работала она. Они разговорились на каком-то мероприятии, потом встретились в гостях и проболтали целый вечер. Морис – очень интересный и приятный собеседник. Он позвонил Полине уточнить название книги, которую она упомянула. Знакомство укрепилось. Теперь, завидев Полину на вечеринке, Морис сразу направлялся к ней. Раз или два они вместе ходили в кафе. Полина пригласила его на Новый год.
Людей из круга Мориса, знавших дальнейший сценарий, ошарашило известие о свадьбе. Пожить вместе – обычное дело. Но зачем жениться? Милая девочка, кто бы спорил. Однако связывать себя всерьез? Морис – и семейная жизнь?
Полина в этом смысле принадлежала к тому же кругу.
– Зачем? – в отчаянии спросила она Терезу. – Зачем жениться?
– Я его люблю, – ответила Тереза, сияя от счастья.
– Подумай хоть чуть-чуть! – взмолилась Полина.
– Когда любишь, думать невозможно, – резонно возразила Тереза.
Нет ничего ужасного в том, чтобы выйти за человека на пятнадцать лет старше. Если влюблена и к собственным изумлению и радости видишь, что твое чувство взаимно, естественно ответить «да» на предложение.
Люк извивается – возможно, потому что Морис держит его неуверенно. Морис опускает малыша на землю, и тот отправляется исследовать кустик травы. Что-то находит и сует в рот. Полина вмешивается, вытаскивает у Люка изо рта сучок. Морис наблюдает за ними с благодушным смирением. Он по-своему любит сына. Однако это не значит, что его чувства хоть отдаленно похожи на те, которые Полина испытывает к Терезе или Тереза – к Люку. Морис в общем-то рад, что Люк есть. С интересом за ним наблюдает. Если Люк серьезно заболеет, Морис будет искренне переживать, если умрет, для Мориса это станет тяжелым ударом. Однако по рихтеровой шкале родительской привязанности Морис больше трех баллов не набирает.
Кое-кто сказал бы, что в этом ему крупно повезло.
– Вы бывали в замке Брэдли? – спрашивает Морис.
– Конечно, нет, – отвечает Полина.
Замок Брэдли – поместье шестнадцатого века в десяти милях отсюда, недавно превращенное в тематический парк. Там предлагают «Прогулку с Робин Гудом», турниры, соколиную охоту и (по субботам) средневековые пиры.
– Думаю съездить туда на выходные.
Полина поднимает брови.
– Есть более удачные способы развлекать гостей.
– Я слишком отрываюсь от земли, – говорит Морис. – Надо все-таки посмотреть и на реальный туризм.
– А, ясно. Книга.
Значит, поездка нужна не для развлечения гостей, а для самого Мориса.
Его эгоизм не слишком бросается в глаза. Не то что Морис заметно поглощен собственной особой или много говорит о себе и о своих заботах. Наоборот, он старается понять других, спрашивает со своим всегдашним чуть ироничным выражением: «Почему вы так думаете?» или «Отчего вы так поступили?». Его эгоизм более тонкого свойства и заключается в несгибаемой целеустремленности. Только когда узнаешь Мориса поближе – когда получишь возможность наблюдать за ним некоторое время, – становится ясно, что он беспрестанно манипулирует людьми. Все вокруг Мориса делают то, что нужно Морису. Он проворачивает это блестяще.
– На меня можете не рассчитывать, – говорит Полина.
Морис смотрит на нее долгим лукавым взглядом.
– Вы нам нужны, Полина. И вдруг вам понравится? Заранее не угадать.
– Я решу ближе к делу.
Морис широко улыбается.
– До чего же вы независимая женщина! Вы всегда такой были?
Вопрос не случайный: Морису и впрямь интересно. Полина не станет отвечать, потому что ответить значит раскрыться, а ей не хочется раскрываться перед Морисом. Вместо этого она поворачивается к Люку, учит его сдувать пух с одуванчика. Морис некоторое время смотрит на нее, потом допивает кофе и уходит в дом.
На вопрос, счастлива ли она, Полина, наверное, ответила бы «да». В целом счастлива. Однако мало кому хватило бы духу этот вопрос задать. Полина считается самодостаточной, энергичной женщиной, сочетающей здоровую уверенность в себе с разумной заботой об окружающих. Она из тех, от кого психотерапевты должны бежать, как от огня. Или, по крайней мере, выглядит такой со стороны.
Она и впрямь независима, но за свою независимость ей дорого пришлось заплатить, поэтому она и не стала отвечать Морису. Полина одна с тех самых пор, как вырастила дочь. Вернее, не то чтобы совсем одна. У нее были мужчины, кто-то из них даже жил у нее квартире. Но она одинока в принципе, свободна от всяких обязательств. У нее выработались собственные холостяцкие привычки: менять планы в зависимости от настроения, действовать по обстоятельствам. Это по большей части хорошая жизнь, полная тщательно культивируемых мелких радостей, когда имеешь возможность себя побаловать или отвертеться от того, что тебе не по душе. Когда ничем не связана, не должна ни к кому приноравливаться и никого терпеть. Жизнь, в которой что угодно может случиться и временами случается. И в которой одиночество иногда накатывает черной волной, а в серую предутреннюю пору постель обступают призраки.
В отличие от Мориса, Полина не ужасается тому, что стареет. Когда она думает о своем возрасте – когда вспоминает, что ей пятьдесят пять, – то скорее удивляется, чем негодует. Удивляется, что дожила до таких лет. Долгое наполненное время детства, чехарда юности, затем – неумолимый стремительный поток событий. И вот она здесь, в сегодняшнем дне, который не так уж плох, хотя кое в чем и не слишком хорош. У нее старческие веснушки на руках, и зубы, похоже, не доживут вместе с нею до старости. Либидо уже не то, хотя это, наверное, к лучшему. Однако мир по-прежнему свеж и полон обещаний.
Люку надоели одуванчики. Он бросает мячик, бежит следом, падает, встает, снова бросает мячик – осваивает новое умение. Полина, глядя на него, думает, что есть еще и такой феномен как время Люка, процесс ускоренных перемен; кажется, будто Люк не привязан к обычному течению календарного года, но движется собственным блуждающим курсом, оставляя за собой стремительную череду Люков: розовый младенец с глазами-пуговками превратился в мини-бульдозер, ползающий по всему дому, и вот уже он топочет по траве за пластмассовым шариком. Люк – на скоростном пути, не синхронизированном с днями Полины или своих родителей.
Набежали облака. Погода снова портится – ясное утро сменил пасмурный день. С холмов ползет серая пелена, зелень полей, деревьев и живых изгородей становится ярче, насыщеннее. Падают первые капли.
Полина берет Люка на руки и уносит в дом.
3
Полина помнит, как впервые увидела Терезу с Люком. Она идет по палате между двумя рядами ног, торчащих из халатов и ночных рубашек. Коричневых ног, черных, розовых. Гектары неприкрытого женского тела, ступней, коленей, грудей, к которым прижаты пушистые младенческие головки. Никакой стыдливости, всё нараспашку, как есть. Это мир, который вращается вокруг женского тела. И еще тут полно народу. Медсестры снуют туда-сюда, у каждой кровати толпятся мужья, друзья, родители, братья и сестры. Везде цветы, где-то откупоривают шампанское. Повсюду едят и пьют, будто это не больница, а муниципальный парк в выходной день.
Ладно, думает Полина, ладно. Она идет по аллее ног, мимо семей, мимо мельтешащих отпрысков и партнеров. «Посещение с 15:00 до 18:00, – гласит объявление в лифте. – Партнеры допускаются в любое время». Куда подевались мужья? Вымерли за ненадобностью. Ну и ладно.
Она наконец видит Терезу. Тереза одна. Одна с Люком. Полина подходит и замирает на мгновение, пока дочь ее не заметила. Тереза вне остального мира, она заключена в воздушном пузыре счастья, в полноте переживаемых чувств. Она смотрит на Люка и не видит больше ничего. А Люк, надо думать, не видит никого, кроме матери – это его первое и главное открытие в жизни.
Теперь она знает, думает Полина. Вчера еще не знала, а сегодня знает все.
Она подходит к кровати. Говорит: «Привет. Вот, значит, мы какие».
Они любуются Люком. Изучают его дюйм за дюймом: глаза, нос, рот, волосики, пальчики на руках и на ногах. Упиваются им.
– Как это было? – спрашивает Полина.
– Ужасно. Страшно. И потрясающе. Все сразу. Ты знаешь.
– Да, – с чувством отвечает Полина. – Знаю.
Конечно, она знает. Такое остается с тобой на всю жизнь.
Боль пронзает ее насквозь. Стискивает так, что из горла вырывается крик, потом отпускает. И снова, и снова, и снова. Она спрашивает, который час. Начало четвертого. Ночь, которая длится бесконечно.
Она одна с акушеркой в тесной спальне. Гарри в соседней комнате. Он иногда заглядывает в дверь, лицо встревоженное. Акушерка говорит, все хорошо, и гонит его прочь. Она на год старше Полины – они выяснили это, пока еще можно было беседовать. Теперь не до разговоров. Полина по лицу акушерки видит: что-то идет не так. Акушерка позвонила доктору. Боль и страх сливаются в одну ревущую черноту.
Она говорит акушерке, что не хочет умирать.
– Все будет хорошо, – отвечает та. В голосе не слышно уверенности.
Дальнейшее спрессовано в череду ощущений и образов. Ее тащат на носилках. Вой сирены «скорой помощи». Это происходит со мной, думает Полина. Со мной, не с кем-то другим. Она глядит в белый потолок, с которого свисает яркая лампа под зеленым колпаком. Сверху смотрят лица – бесстрастные, сосредоточенные. Люди подходят и отходят, слышны их шаги по линолеуму.
Она лежит все на том же столе, обессиленная, и по-прежнему смотрит в потолок. Люди ушли. Рядом каталка, на которую положили ребенка. Полина видит его личико и темные волосики на голове. Его? Ее, девочки. Она пытается думать о ребенке, о своей дочери, но от слабости ничего не выходит. Что-то неправильно. Полина как будто плывет. Она видит помещение: белый потолок, лампу под зеленым колпаком, спину медсестры, которая что-то моет в раковине, младенца на каталке, однако не может ни думать, ни говорить. Понятно, что это неправильно, что надо позвать медсестру, она хочет открыть рот – не получается, – поэтому просто лежит, уплывая все дальше и дальше.
Тут медсестра поворачивается, подходит, смотрит сверху вниз. Опять шаги по линолеуму, еще люди, гулкие голоса звучат откуда-то издалека.
Когда сегодняшняя Полина вспоминает роды, её пробирает дрожь. Это она сама, но такая далекая, что от нее осталось одно эхо. Оно постоянно здесь, звенит в ушах, связывает ее с той призрачной молодой женщиной. Тени в сознании, далеко в прошлом и глубоко в памяти.
Ребенок застрял. Низкое поперечное стояние головки. Возникла угроза для матери и ребенка, с которой акушерка самостоятельно справиться не могла. В домашних условиях, общепринятых в то время, такие роды не принимают. Отсюда карета «скорой помощи», больничный доктор, спешно вызванный из ординаторской, где он пил утренний чай, суетящиеся медсестры. Щипцы. У Полины – той призрачной Полины – случился послеродовой шок. Пришлось делать переливание крови. По большому счету, ничего экстраординарного; ни мать, ни ребенок не пострадали. Однако сухие медицинские пояснения кажутся никак не связанными с опытом чувств. Это было так, говорит Полина-тень, Полина-отголосок: боль, пронзающая все тело, шаги по линолеуму, лампа под зеленым колпаком.
И Гарри, который входит и смотрит на нее сверху вниз, говорит «Привет», берет ее за руку. Полина глядит на него, и ей нечего ему сказать. Как будто она путешествовала так долго и так далеко, что разучилась говорить на одном с ним языке.
Сегодня, майским утром в «Далях», Полина получает письмо от Гарри. Он пишет примерно раз в год, иногда чаще, иногда реже. Она стоит у почтового фургона на проселке перед коттеджем и забирает письма у почтальона, который сидит за рулем, не выключая двигатель, и, как всегда, сообщает прогноз погоды на неделю. Сегодня, в пятницу, немного покапает, но к выходным прояснится. Она разбирает письма: эти Морису и Терезе, эти ей – и видит калифорнийскую марку на авиаконверте. Значит, от Гарри. Полина кладет свои письма в карман, остальные заносит в ту половину дома, где Тереза и Морис сидят за завтраком. Пересказывает им прогноз погоды.
– Отлично, – говорит Морис. – Значит, в замок Брэдли?
– Можешь не ехать, если не хочешь, мам, – говорит Тереза.
– Ничего подобного, – возражает Морис. – Полина нам нужна, и ей понравится.
– Вы тиран, Морис, – отвечает Полина. – И я решу ближе к делу.
– Конечно, – говорит Морис, направляясь к лестнице. – Совершенно правильно. Но хотя бы пообедайте с нами в субботу. К тому времени мы успеем друг другу до смерти надоесть.
В «Далях» заведено, что две семьи живут до определенной степени автономно. Разумеется, все постоянно ходят из дома в дом, но вечера Полина проводит одна. Это негласная договоренность, что тесное соседство можно выдержать, только если уважать право других на уединение и личную жизнь. Однако по такой же неписанной договоренности вечером в субботу все едят вместе. Иногда на Полину находит стих что-нибудь приготовить, иногда она ходит в гости к Терезе и Морису.
– Спасибо, – говорит она. – С удовольствием.
Морис уже на середине лестницы.
– Тереза, ты не могла бы через часок принести мне чашечку кофе?
Тереза кивает.
Он уходит в кабинет.
Морис никогда не скажет «милая» или «дорогая». Только «Тереза». Впрочем, это ничего не значит, убеждает себя Полина. Ровным счетом ничего. Гарри так и сыпал ласковыми прозвищами: «любовь моя», «солнышко», «малыш».
– Мы с пяти на ногах, – объясняет Тереза. – Люк завел привычку вставать с птицами. Теперь, конечно, спит сном праведника. Я и не знала, что в деревне так шумно. Мы ведь не жили тут весной.
– Было хуже, когда у Чонди на большом поле ягнились овцы, – сообщает Полина. – Он уже некоторое время как с ними завязал. Наверное, спрос на баранину просел.
– Морис говорит, за тишиной и покоем надо ехать назад в Кемден. Шутит, конечно.
– Морис, учитывая его теперешнюю сферу интересов, лучше других знает, что культ сельской неги – миф.
Она вынуждена признать, что тут Морис прав. По весне треск газовых пушек, которым фермеры отпугивают птиц, будил Полину на заре и не давал ей расслабляться во время работы. Май-июнь относительно мирные, если не считать гомона птиц в разгар брачного сезона. А вот с середины июля начинается веселая жизнь. Вся округа наполняется ревом техники: ритмичным стуком сенокосилок, тяжелым гулом исполинских хлебоуборочных комбайнов, рычанием суетящихся на подхвате тракторов. По крайней мере, местность уже не пылает кострами – сжигать солому запрещено законом, – так что в августе-сентябре тут можно дышать. Однако деревенская тишина – типичная городская легенда. Смешно ждать тишины. Сельское хозяйство – индустрия. Если живешь в индустриальном районе – тем более по собственному выбору, – то уж терпи.
Тереза зевает.
– Пойду, наверное, вздремну, пока Люк не проснулся.
– Иди, конечно.
Полина уже направляется к двери, ее голова занята собственными планами на день. Сделать несколько телефонных звонков. Рукопись.
В кабинете она кладет письма на стол и оставляет лежать, поскольку убедилась, что в них нет ничего срочного. Смотрит на поле, и тут же на фоне зелени возникает зевающее лицо Терезы: здоровая розовая полость в обрамлении ровных белых зубов. У Терезы хорошие зубы, поскольку Полина всегда следила за правильным питанием. Думая об этом, она вспоминает другую Терезу, с короткой стрижкой и детским щербатым ртом, и других Терез, целую череду. В голове у Полины существует не одна Тереза, но последовательность ее преображений. А во сне она всегда видит Терезу маленькой – четырех, шести, девятилетней – и ничуть не удивляется. Принимает эти реинкарнации без вопросов и целиком уходит в сонную реальность материнских тревог или раздражения. Утром в первые секунды она чувствует легкую растерянность от того, что видит взрослую и чужую Терезу, одновременно до мелочей знакомую и в каком-то более глубоком смысле неведомую. Тереза – человек, которого Полина знает и лучше, и хуже всех – глубина незнания обусловлена самой интенсивностью знания.
Полина вновь замечает реальный мир за окном. Ветер колышет поле – волны тени бегут по молодой пшенице. Все вокруг – импрессионистский этюд. Деревья – зеленые факелы, старая живая изгородь в конце сада – целая палитра красок от бежевой через лимонно-желтую и салатовую к охристому, ржаво-бурому и малиновому. Каждый новый распустившийся лист расширяет общую гамму. Последние две недели весь мир лучится и переливается.
Весна в этом году запоздала. В апреле была еще зима, земля коченела от холода. Медленно, неохотно, по изгородям поползла зеленая дымка, терновник окутался белой изморозью цветов. А к концу месяца температура резко пошла вверх. Полина ловит себя на том, что уже не может вспомнить, как выглядит зимний пейзаж. Не может вызвать его в памяти так, как вызывает прежние воплощения Терезы. Казалось бы, отсюда следует вывод, что земля эфемернее человека, а это очевидно не так. Полина думает о ложной неизменности «Далей», об их сгинувших обитателях.
Она берется за письмо, и тут звонит телефон.
– Это я, – произносит Хью в трубке. – Мешаю?
– Мешай на здоровье. Я все равно отлыниваю от работы.
– Не надоело тебе еще в деревне?
– Здесь весна, – отвечает Тереза. – Кукушки, цветы. Все такое.
– У нас то же самое. Сегодня я проезжал на автобусе мимо Грин-парка, там очень симпатично. Когда собираешься в Лондон?
– Наверное, скоро. Надо иногда заглядывать в квартиру. Только не говори, что соскучился.
– Конечно, соскучился, – возмущается Хью. – Ты никогда раньше не удирала на все лето.
– У меня работы выше головы. Приезжай ты на денек-другой.
– Ммм… может быть.
– Хью, – говорит она, – что с тобой? Ты закоренелый горожанин. Пугаешься, если на шаг сойдешь с асфальта. Итак… что происходит?
Хью Фоллет – букинист. Он большой и неуклюжий седеющий брюнет с круглым розовым лицом, в толстых очках, которые всегда хочется с него снять и хорошенько протереть. Полина привязана к нему больше, чем к кому-либо из своих знакомых.
У Хью есть его магазин и дело. Еще у него есть дом в Хенли, где он живет с женою, Элейн. У нее что-то с головой, какая-то психическая болезнь, превратившая ее в инвалида. У этой болезни нет названия. Элейн не бывает на людях и не принимает гостей. Не может путешествовать. Она почти не выходит из дома, где живет, укрывшись в коконе своего невроза. Если кто-нибудь заглядывает к Хью – что случается крайне редко, – Элейн уходит к себе в спальню. Она не берет телефонную трубку. Когда Хью нет дома, включен автоответчик.
Когда и как это началось, Полина не знает. Порой она гадает, какая душевная травма довела несчастную женщину до то такого состояния. Уж конечно, это не мог быть какой-то поступок Хью? Доброго, порядочного, мягкосердечного Хью. И он никогда не говорит про жену, хранит по ее поводу полнейшее и, возможно, красноречивое молчание. Довольно и того, что он не уходит от Элейн, что не жалуется и будет терпеть до конца. Хью почти всегда ночует дома, а если уезжает, то обязательно звонит, оставляет сообщение на упрямо молчащем автоответчике. Раз в сто лет Элейн перезванивает, в чем Полина имела возможность убедиться, и у них происходит короткий разговор о практических мелочах: бойлер плохо работает, кто-то пытался дозвониться до Хью…
Некоторое время назад у Полины и Хью был роман. В какой-то момент казалось даже, что после стольких лет героической самоотверженностью Хью все-таки уйдет от Элейн. Однако этого не случилось. Они оба удержались от решительного и, возможно, безответственного шага, а роман как-то сам собою сошел на нет. Это с самого начала был уютный безбурный секс – Полине думалось, что такой, наверное, бывает супружеская близость у давно женатых пар. Для Хью, насколько она поняла, постель была не слишком важна, так что они по молчаливому согласию отказались от этой стороны отношений – спокойно и без всяких взаимных обид. Между ними сохранилась теплая дружба с легким оттенком чего-то большего. Общие знакомые наверняка считают их любовниками. Как-то Полина, мучимая угрызениями совести, спросила, что почувствовала бы Элейн, если бы узнала о его ночевках у нее в Лондоне или (реже) в «Далях». Хью ответил без всякого выражения: «Элейн это совершенно не интересует», – и в его словах Полине послышалась глубокая безысходность.
Впрочем, у Хью есть своя жизнь, состоящая из работы и отдыха. Его рабочая жизнь целиком отдана чрезвычайно узкоспециализированному магазину (который хочется по старинке называть книжной лавкой), отпугивающему случайных посетителей минималисткой витриной (один-два избранных раритета) и приглушенной атмосферой (ковры, деревянные шкафы со стеклами). Вся работа Хью так или иначе связана с этой лавкой, хотя времени в ней он проводит немного: там заправляет его давнишняя помощница Марджери, которая одинаково умеет одним взглядом отшить тех, кто заглянул просто так, и приветить давнишних клиентов Хью – их она всех помнит в лицо. Подав такому посетителю кофе и новый каталог, она тихонько отходит к телефону и вызывает Хью из дома или из клуба.
Клиенты приезжают отовсюду. Коллекционеры, перекупщики. Американцы, немцы, японцы. Хью тоже довольно много разъезжает по книжным делам. О своих поездках не распространяется, просто исчезает на время. Со временем Полина узнает, что он летал в Лос-Анджелес или на пару дней заскочил во Франкфурт. Раз или два она отвозила его в Хитроу. В заношенном плаще, с потертым старым портфелем, Хью вовсе не похож на международного бизнесмена. Из этого портфеля он иногда достает первоиздание Джойса или том Шекспира, выпущенный в тридцатых издательством «Нонсач пресс» тиражом в полторы тысячи экземпляров. Как-то вытащил завернутый в газету томик эротики восемнадцатого века с изящными картинками, на которых были изображены пары в немыслимых позах. Не совсем его область, смущенно объяснил Хью, но попалось на глаза, а он знает, кому это пристроить. Полина отметила роскошный переплет и великолепный гравированный фронтиспис. «О да, – ответил Хью, – любители клубнички всегда предпочитали красивые книги».
Полина сильно огорчилась бы, если бы узнала, что у Хью есть женщина, хотя первая бы признала, что это нелепое собственническое чувство. Впрочем, скорее всего, у него никого нет. Полине хорошо известна его размеренная жизнь: обеды в клубах, поездки на провинциальные аукционы, встречи с клиентами. Разумеется, в Америке или во Франции может происходить все, что угодно; в конце концов, он ничем ей не обязан. Как и она ему. Они дорожат друг другом, но еще больше дорожат своей независимостью, которой окружили себя, словно крепостной стеной.
– На прошлой неделе я был в Париже, – говорит Хью. – Нашел новое местечко, где замечательно кормят.
Он подробно рассказывает о двух ленчах и одном обеде. Полина терпеливо слушает. Она никогда не понимала гурманских наклонностей Хью. Иногда ей кажется, что он ищет в еде утешения, компенсации за то, чего недополучил в жизни. А может, изысканная кухня вызывает у него те же чувства, что и полиграфическое искусство. И его рассказы о съеденном не утомляют, в них есть даже что-то заразительное. Полине любит обедать с ним в хорошем ресторане, хотя и понимает, что не может разделить все тонкости ценительства, и Хью это известно.
– Сходил на замечательную выставку русских икон. Тебе бы понравилось.
– Не сомневаюсь. У нас тут только сельские ярмарки и распродажи из машин. Боюсь, мне предстоит все лето кататься по старым поместьям – Морис собирает материал для своей книги о туризме.
– Приезжай на выходные. Я попробую добыть билеты на «Парсифаля» в Национальную оперу.
– Ммм… может быть, чуть позже. Я тут пока так хорошо акклиматизировалась.
– Вот что, дорогая. Если ты вздумала окончательно похоронить себя в глуши, я ничего поделать не могу. Придется как-нибудь заехать и вытащить тебя в приличный ресторан.
Полина смеется. Она слышит на заднем плане голос Марджери. Значит, Хью у себя в кабинете при магазинчике.
– Мне надо будет сейчас отойти, – говорит Хью.
Они болтают еще минуты две, потом она вешает трубку.
Хью был бы хорошим отцом, но у них с Элейн детей нет. Иногда, когда речь заходит о детях, Полина видит у него на лице странное выражение. Он любит молодежь, всегда интересуется, как дела у Терезы.
Без сомнения, Хью был бы Терезе хорошим отцом.
Первые годы после того, как они с Гарри расстались, Тереза время от времени спрашивала: «А папа вернется?»
– Нет, – отвечала Полина. – Боюсь, что нет.
И детское личико грустнело.
Тереза давно перестала ждать отцовского возвращения, однако сохранила ту же опасную веру в лучшее. Она сама бесхитростна и никому не желает зла, поэтому ждет того же от других, а сталкиваясь с подлостью, только удивляется. Опыт ничему ее не учит. Ей по-прежнему невдомек, как можно поступать дурно. Она не видит рифы, когда они внезапно проступают из тьмы.
Тереза всегда плыла по течению. В детстве она двигалась, как во сне, проживая день за днем в неком подобии зачарованного транса. Полина изо всех сил пыталась ее расшевелить, настроить на более решительный лад. По контрасту одноклассники Терезы выглядели целеустремленными и активными: они пробивались в университеты, осаждали рекрутинговые агентства. Тереза сказала, что хочет учиться в художественном колледже.
– Ну так сделай что-нибудь, – убеждала Полина. – Напиши заявление, заполни анкету. Шевелись. Сама знаешь, никто не пришлет за тобой машину с шофером.
Вид у Терезы становился несчастный.
И все же она не безвольна. Не лентяйка, которой хочется только лежать на диване. Беда в этой ее нелепой вере, что все будет хорошо. У Терезы дизайнерский талант, который начался с детского увлечения красками и бумагой и вырос в умение творить поразительные вещи из самых неожиданных материалов. Их дом всегда был наполнен эффектными скульптурами из оберток и упаковок: сказочными птицами, фантастическими замками. В школе она почти все время проводила в кабинете рисования и лепки, все в том же сосредоточенном трансе. Именно этим она собиралась заниматься в жизни – так из-за чего переживать?
Тереза все-таки поступила в художественную школу и научилась приноравливать свои устремления к требованиям системы. Если хочешь зарабатывать тем, что тебе нравится, научись себя продавать. Она преодолела заполнение анкеты и собеседование, поступила и вышла из колледжа с востребованной профессией, так что ко времени знакомства с Морисом успешно работала независимым дизайнером. Бралась за любые заказы – от оформления ресторанной витрины до театрального реквизита.
Теперь из-за Люка Тереза временно забросила карьеру и нисколько об этом не жалеет – пока. И возможно, думает Полина, они решатся родить второго. Возможно.
Когда Тереза сообщила, что выходит за Мориса, и добавила с абсолютной искренностью: «Я и не подозревала, что можно быть такой счастливой!», у Полины упало сердце. Не только из-за Мориса («Ты не так уж хорошо его знаешь, – сказала она себе, – может, он гораздо лучше, чем кажется. И пятнадцать лет – не настолько большая разница»), но именно из-за убежденности Терезы в собственных словах. Она говорила так, будто обрела шестое чувство, а Полина не видела ничего, кроме пугающей уязвимости. Тереза, исполненная радужных надежд, вновь казалось ребенком – ребенком, не ждущим от жизни подлостей.
Внизу хлопает дверь. Из коттеджа выходит Морис. Идет к машине, усаживается за руль, включает двигатель, разворачивается, выезжает на проселок. Едет чересчур быстро. Куда это он собрался? Видимо, работа с утра не заладилась. А Морис всегда непоседлив. Вечно срывается куда-то, не предупредив. «Я никогда не знаю, где он», – спокойно говорит Тереза.
Сейчас он, наверное, поехал в ближайший поселок за еще одной газетой или по какой-нибудь другой своей надобности. Полина выкидывает Мориса из головы и берется наконец за письма. Там счет за электричество, банковский баланс, чек за редактуру, две просьбы о пожертвованиях от благотворительных фондов и авиаконверт с калифорнийской маркой.